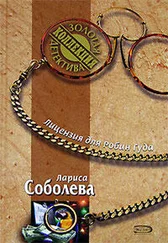Люди шумели, кони храпели, ржали, а порой начинала играть гармошка или трубить труба.
– Вот мы и на месте, Ляксандра Николаевна! – важно сообщил Федос. – Здесь у нас, подивись, и штаб – реввоенсовет, и волостной совет, и кульпросвет…
– Спасибо… – она хотела соскользнуть с седла, но он не пустил:
– Куды? Почекай, довезу тебя прямо до входу, а то ще затопчут – бачиш, митинг! Молодые анархысты к нам прибыли, вишь, сколько!
Нужный им дом тоже был двухэтажным, каменным, даже с палисадником, но одно окно внизу было выбито и заколочено наспех досками, а другие такие грязные, что рассмотреть сквозь них ничего было нельзя.
У входа, справа и слева от кривой вывески с надписью «Культпросвет революционной армии батьки Махно», висели два флага – чёрный и красный. На черном было написано: «Власть рождает паразитов. Да здравствует анархия!», а на красном – «Вся власть советам на местах!».
Федос вдруг молодецки присвистнул, вытянул руку с нагайкой, указал налево:
– О, глянь-ко, сам Нестор Иваныч выступает! Ну а чо ж, и правильно, нехай молодняк на батьку видразу и подивится, и послухает!
– Где?.. – пробормотала Саша.
– Да вона. Вишь, на рессорке стоит?
Она взглянула, узнала… Конечно, это был Нестор: в гимнастерке и портупее, с саблей на боку, в бараньей шапке, изрядно придававшей ему росту… Он что-то говорил – горячо, даже зло, толпа преданно слушала, то и дело взрываясь одобрительными криками или гулом.
Саша поспешно отвела глаза, чувствуя, что при одном только упоминании о Махно, не то что от взгляда на него, ее снова как будто сунули в раскаленную печь, и внизу живота предательски разлилась сладкая, влажная боль. Да что же это за наваждение?.. Еще позавчера она его знать не знала, а сегодня тоскует по нему, как по любовнику…
«Ах, так он же и есть – полюбовник!»
Наверное, у нее на лице все было написано крупными буквами, потому что Федос, с любопытством ее разглядывавший, оскалился:
– Ще, екнуло сердечко?.. Вправду? Могем ближче подобраться, тож послухать. Тебе треба, ты ж помооощница по культпросвету!
– Нет! Нет… – Саша улучила момент, спрыгнула с седла, подбежала к нужной двери, дернула на себя – слава Богу, открыто! – и проскользнула внутрь, в длинный коридор, пахнущий мышами, канцелярским клеем и жжеными спичками.
Пробежала до конца, инстинктивно повернула налево, толкнулась в дверь – изнутри важно сказали:
– Да-да, товарищ, входите! – вошла, и оказалась в большой комнате с низким потолком, но с тремя окнами, разделенной пополам ширмой, похожей на театральную. За ширмой было что-то навалено и наставлено в беспорядке, может, мебель, может, сценический реквизит, а на видимой половине стоял громадный канцелярский стол и несколько стульев. Был еще шкаф, несколько полок и столик поменьше, где примостились чайник, спиртовка и стаканы в подстаканниках.
Над спиртовкой колдовал Сева – Всеволод Яковлевич Волин, глава махновского «агитпропа», как успела запомнить Саша из путаных пояснений Дуняши и откровений Щуся. Должно быть, собирался пить чай, но, увидев вчерашнюю партнершу по танцу, оставил свое занятие, принял галантный вид и пошел ей навстречу:
– Александра Николаевна! Очень, очень рад, что вы все-таки решились заглянуть… прошу, прошу, садитесь, располагайтесь!
Он смахнул со стула какие-то газеты и папки, пододвинул его поближе к столу, усадил Сашу и сейчас же вовлек в разговор, вежливо, по-деловому, принялся «вводить в курс дела». Объяснять, что у них в Гуляй Поле прямо сейчас творится история – формируется особая, народно-революционная армия под командованием Нестора Ивановича Махно, полководца от Бога… что крестьянская молодежь, после нескольких громких побед батьки на германскими оккупантами, валом валит под черные знамена, со всех окрестных сел и хуторов.
– Так вот, голубушка моя, Александра Николаевна, извольте видеть – всех их надо не только вооружать, но и обучать, и развивать, приобщать к революционной культуре! Объяснять принципы, по каким существует новое, безвластное общество…
– Да что же вы от меня хотите, Всеволод Яковлевич? Чем я могу помочь?
– Сущие пустяки, Александра Николаевна! На машинке печатать умеете?
– Умею. – в годы войны, и после, когда она осталась совсем одна в Москве, пришлось научиться и этому…
– Ну так это же прекрасно! Замечательно! Значит, будете перепечатывать заметки для стенгазеты, и речи для митингов… речи-то пишет в основном Галина Андреевна, а у нее почерк неразборчивый, не учительский совсем.
Читать дальше
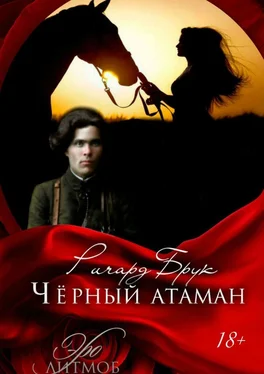
![Лариса Соболева - Последнее дело молодого киллера [= Лицензия для Робин Гуда]](/books/30801/larisa-soboleva-poslednee-delo-molodogo-killera-thumb.webp)