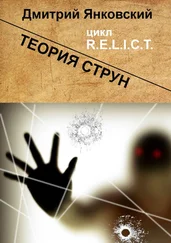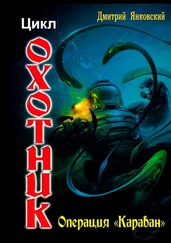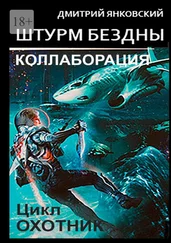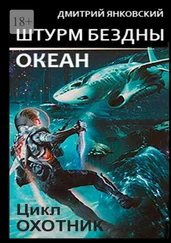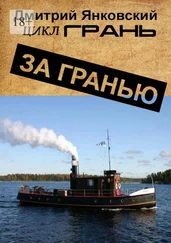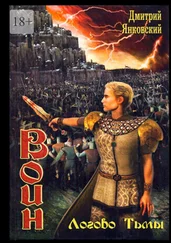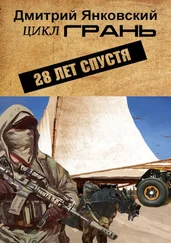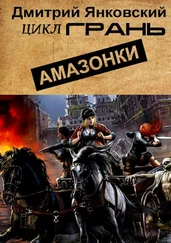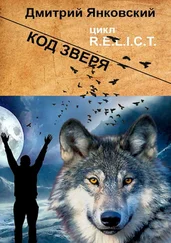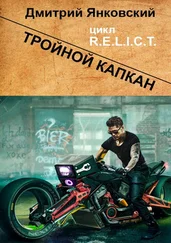В общем, Вершинский, как обычно, все хорошо рассчитал. Не смотря на преклонный возраст. Но море, как это часто бывает, внесло свои коррективы.
Заслышав шумы корабля, твари самых разных калибров начали стягиваться к источнику звука. Радар их засек штатно, а когда торпеды вышли на встречный курс и приблизились на пятимильную отметку, по ним шарахнули из ракетно-бомбовых установок. Уже имея опыт морских переходов, Вершинский загрузил столько снарядов, сколько вместилось, потому что удары реактивными глубинными бомбами издалека еще в Индийском океане показали свою высокую эффективность против торпедных стай.
Но проблема оказалась не в количестве снарядов, а в ограничениях на предельную плотность огня. Установки не могли палить непрерывно, их надо было перезаряжать. Поначалу этот факт ни у кого не вызывал опасений, так как били на полных пять миль, а это расстояние ни одна торпеда не преодолеет за короткое время, пока осуществляется перезарядка.
Члены экипажа работали, как черти в аду, подтаскивали бомбы, снаряжали кассеты установок. Но вскоре Вершинский понял, что каждая перезарядка, за счет потери времени, укорачивает огневую дистанцию примерно на один кабельтов. После четырех перезарядок расстояние до фронта атакующих торпед уменьшилось на полмили, и Вершинский понял, что если кольцо биотехов будет сжиматься с такой скоростью, то до входа в Севастопольскую бухту твари прорвут оборону и смогут впрямую атаковать несущийся к цели корабль.
Понимая, что дело может кончиться худо, он вышел на связь с береговой базой, и запросил поддержку с воздуха. Идея была рискованной, потому что гравилеты с большой высоты стрелять не могли, а на малой их вполне могла накрыть дремлющая донная ракетная платформа. Но Вершинский был уверен в успехе, так как Черное море имеет важную особенность, удачную для людей, и не очень удачную для тварей. В нем, на глубинах свыше ста метров, никакой жизни нет, потому что в воде растворен не кислород, а сероводород. Это исключало существование ракетных платформ на большей части черноморского дна. Угнездиться они могли только вдоль северного побережья, в районе, где некогда стояла Одесса, и непосредственно у входа в Севастопольскую бухту. Там глубины варьировались от ста пятидесяти до ста метров, и эти воды вполне могли стать пристанищем для донных платформ. Поэтому Вершинский задумал нетривиальный тактический ход – на глубокой воде экономить ракетно-бомбовые боеприпасы, дав волю своему превосходству в воздухе, обстреливая стаи торпед с гравилетов. Более того, часть транспортных гравилетов он задействовал для пополнения уже частично израсходованного боекомплекта артиллеристских установок путем тросовой отгрузки снаряженных кассет прямо на палубу корабля, идущего полным ходом.
Крейсерская скорость гравилетов втрое и даже вчетверо превышала скорость корабля. Они догнали его на четверти задуманного пути, и сразу начали уничтожение торпедных стай с воздуха. Это дало отдых и экипажу, и самим ракетно-бомбовым установкам. Капитан, не снижая скорость, принял на борт груз боеприпасов с двух транспортных гравилетов.
Когда первое звено гравилетов отстрелялось и повернуло в сторону Босфора, расчистив путь, их место заняло второе. Экипаж корабля отдыхал и набирался сил.
Биотехи тоже поменяли тактику. Это были умные твари, и они умели оценивать обстановку. Обычно они перли нахрапом лишь поначалу, но потом, выяснив сильные стороны противника, они отходили на безопасное расстояние, и начинали выискивать прорехи в обороне.
Торпеды поняли, что атаковать корабль, пока он прикрыт с воздуха, будет сложно. Для этого ведь надо сосредоточиться, а по сосредоточенной стае огонь сверху получался наиболее эффективным. Это приводило к бесполезным потерям. И хотя инстинкт самосохранения у биотехов был намного менее развит, в сравнении с естественными видами живых существ, но все же он был зашит в их геном в достаточной степени, чтобы побудить их к повышению эффективности тактики и стратегии.
В результате торпеды прекратили непрерывный напор и рассредоточились, что сделало прикрытие с воздуха бессмысленным. И хотя антигравитационный привод Шерстюка не требовал для работы ни топлива, ни каких-то иных видов энергии, но водород был необходим для питания ходовых турбин, а его запасы на гравилетах не были бесконечными. И чем больше корабль удалялся от береговой базы, тем большие расстояния приходилось преодолевать гравилетчикам, чтобы обозначить в небе свое присутствие, необходимость в котором, по сути, отпала.
Читать дальше
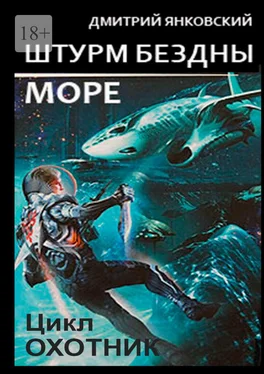
![Дмитрий Янковский - Охотник - Правила подводной охоты. Третья раса. Большая охота. Операция «Караван» [сборник, litres]](/books/419637/dmitrij-yankovskij-ohotnik-pravila-podvodnoj-ohoty-thumb.webp)