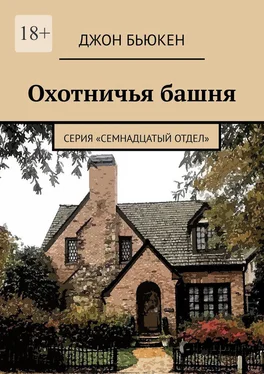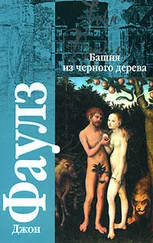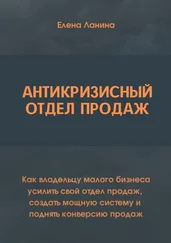– Пожалуй, мы поговорим о тебе, Саския, – ответил юноша. – Что ж, стала ли ты счастливее теперь, после твоего первого выхода в свет?
– Счастливее! – В ее голосе послышался легкий трепет, словно бы от холода дрожала сама музыка. – Дни так коротки, они летят слишком быстро! Я сожалею о времени, впустую потраченном на сон. Всем очень жаль, что мой дебют в свете пришелся на время войны. Но свет оказался милостив ко мне, да и эта война просто обязана стать победоносной для России! И знаешь что еще, Квентин? Уже завтра мне дозволено начать работать сестрой милосердия в Александровской больнице! Что скажешь?..
Разговор этот происходил в начале января 1916 года в одной из комнат большого дворца князя Нирского. В этой неприхотливо обставленной комнате, где князь Петр Нирский хранил некоторые из сокровищ своей знаменитой коллекции, не чувствовалось ни холодного дыхания заснеженных улиц за окном, ни даже намека на идущую где-то войну. Комната отличалась от прочих почти полным отсутствием украшений и драпировки: кроме двух угловых диванчиков здесь было только несколько прекрасного качества ковриков на полу из сибирского кедра. Стены были из зеленого с малахитовыми прожилками мрамора, потолок же – из мрамора более темного, инкрустированного белым. Вдоль стен стояли шкафы и витрины, заполненные роскошным селадоновым фарфором, резным нефритом и слоновой костью, между ними мерцали глазурью персидские и родосские вазы. Во всей комнате вы не нашли бы ярких красок, блеска металла или позолоты. Свет исходил из зеленых алебастровых кадильниц, и в их холодном малахитовом сиянии комната напоминала затопленную океаном пещеру. Воздух был теплым и благоуханным, и хотя в самой комнате было очень тихо, гул голосов и звуки вальса еле слышно доносились до нее из коридора, а на колоннах отражались всполохи света из большого бального зала.
У молодого человека, которого назвали Квентином, было узкое лицо, уже отмеченное морщинками страдания в уголках глаз, которое в тепле комнаты несколько раскраснелось, что только подчеркнуло его хрупкость. Обстановка слегка давила на него, и комната представлялась юноше чем-то вроде оранжереи, хотя сам он очень хорошо знал, что этот званый вечер никоим образом не был типичным для воюющей страны или хозяев этого дворца. Всего неделю назад он делил черный хлеб с князем Нирским в крестьянской избе на Волынском фронте.
– Ты потрясающе выглядишь, Саския, – сказал он. – Я не хочу делать комплименты своей подруге по детским играм, да и ты, полагаю, от них уже устала. Я просто пожелаю тебе в этот день счастья – такого счастья, которое достойно принцессы из сказки. Большего такая старая кляча, как я, сделать для тебя не в состоянии. Воинская служба оказалась для меня неудачной, из-за этого и тебе приходится зря терять время, разговаривая со мной.
– Квентин, бедный! – она дотронулась до его ладони. – Твоя рана очень болит?
– Вовсе нет, – рассмеялся он. – Она отлично заживает. Думаю, через месяц я уже смогу обходиться без трости, а после ты научишь меня всем этим модным танцам.
Их коридора донеслась мелодия тустепа. Ритмичные звуки заставили юношу внутренне сжаться, потому что перед его мысленным взором вдруг предстало мертвое лицо его товарища, который любил насвистывать этот мотив. Он умер в грязи у бельгийской деревни Холленбек во мраке ноябрьских сумерек, и теперь в этой веселой мелодии Квентину слышалось что-то жуткое… Да, этим вечером он определенно чувствовал себя больным и разбитым, потому что в доме, в комнате, в танцах, да и во всей России ощущалось что-то мрачное, словно над ней и над всем божьим миром опускался тяжелый темный занавес. В посольстве, где он поделился своими опасениями, с ним не согласились, но Квентин никак не мог избавиться от этих докучливых мыслей.
Саския заметила его подавленность.
– О чем ты думаешь? – спросила она. В детстве это был ее любимый вопрос.
– Я вдруг подумал, что тебе не стоило возвращаться в столицу из Парижа.
– Но почему?
– Там ты была бы в большей безопасности.
– Ах, что за вздор, дорогой мой Квентин! Где же мне быть в безопасности, если не в моей собственной стране, в России? Здесь все мои друзья – ах как их много! – а также толпы и толпы родственников. Это Франция и Англия для меня небезопасны, потому что пушки уже грохочут у их дверей… А здесь, в столице, меня, пожалуй, слишком уж берегут и обкладывают пуховыми подушками. Я в такой безопасности, Квентин, что, признаюсь, даже ненавижу ее!
Читать дальше