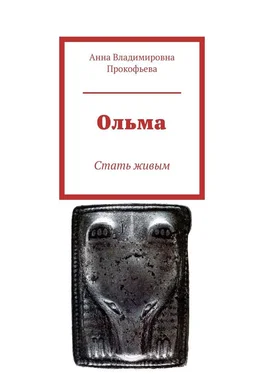Над лобью снова повисла тишина. Даже Ольма, который давил в груди болезненный стон, поднялся на локтях, чтоб увидеть то, что дальше случится. Вздохнул тяжко Вараш и, как самый главный зачинщик этой нескладной и неудавшейся охоты, вынул из кожаных ножен на поясе тяжелый железный нож и подошел к неподвижной медведице. Протянул руку к ближнему своему товарищу-охотнику и тот без разговоров высыпал ему в ладонь запасенные ранее поломанные сучки. Вараш аккуратно разложил все семь сучочков на медвежьей груди и принялся за работу. Сверкнуло острое лезвие в белесом свете зимнего солнца, затем хрустнул сучок и Вараш громко объявил:
– Это мы первую пуговку расстегнули! – Охотники дружно хлопнули в ладоши и громко вскрикнули. Снова сверкнул нож, делая следующий надрез в густой медвежьей шубе, хрустнул новый сучок, ударили крепкие мужские ладони друг о друга, вскрикнули громко мужчины.
– Это мы вторую пуговку расстегнули! – И так до конца, пока не кончились все заготовленные сучки и не распалась густая шкура на груди лесного зверя, как створки перловицы… И тотчас же охотник с криком отпрянул, словно обжегся. Среди распахнутой звериной шубы красовалось молодое девичье тело с нежными розовыми сосцами полной груди и прозрачной, сверкающей, будто украшенная тонкими снежинками, бледной кожей. Вараш бессильно опустил руки и тяжелый нож, разбрызгивая редкие красные капли, упал на снег. Народ снова громко ахнул, ошарашенный страшными тайнами этого дня.
– Как то понять можно?! – в сердцах крикнул Вараш. – Боги, это дева?! В шубе по лесу ходила, да в берлоге жила? Убили, выходит, живого человека-девицу без роду-племени. За то прямо тут всем нам каяться надо!!! – Воскликнул суровый охотник и непрошенные слезы застили его растерявшийся взгляд.
– Нет, люди! – Вскричал Кондый. – И она не человек! Не бойтесь, не виновны вы перед предками! не человека вы убили, а зверя лесного. Среди мёд ведающих зверей нынешних еще попадаются прежние, хоть и мало их осталось, полузвери, полулюди. Жители древней Бермы. И пращуры у нас с ними общие. Но в стародавние времена каждый выбрал свою дорогу жизни… Мы пошли своим путем, а они остались прежними, дикими. Только если ранее могли они перекидываться в людей, то сейчас забыли, как это делается, но внутри все еще остались похожими на нас. Так что зверь она, хоть и необычный, но зверь. Консыг-Куба имя ей древнее. А тех, кто подобен нам и имеет имя, есть нельзя, поскольку не принесет ее мясо пользы. Отдать ее матери-земле и отцу-лесу следует. Откуда пришла, туда пусть и уходит. И прощения должно у нее попросить, как и положено. Помянуть и задобрить. – Замолчал арвуй ненадолго и после строго произнес – Но чтоб впредь такого не случалось – всегда! Всегда чисты должны быть помыслы перед медвежьей охотой, не забывайте об этом!
После последних слов Кондыя Ольма понял, что это именно он своими мечтаниями о дроле своей Томше перед охотой, не подпустил удачу ко всему обществу…
– Найденыша я беру себе! – объявил Кондый. – В лесу, подальше от людских глаз будет он! И я справлюсь с его зверем, – чуть тише добавил старик. Арвуй взял у Вараша сверток с младенцем и побрел в лес, к своему урочищу, там, где священный Синь-камень хранил древние знания пращуров.
– Слышали ли вы Кондыя люди? – спросил Куян. – А, коли, слышали – выполняйте. И вскорости Вараш собирай новую охоту, бол должен быть сытым!
***
После сборища на селищенском взлобке мама Санда и сердобольный Ваган при помощи Томши принесли Ольму в отчий дом. Поперву окружили его суетой и заботой, зобались за ним нещадно. Все еще надеялись, что Ольма выздоровеет и всё-таки станет по-прежнему самым сильным и ловким охотником в боле. Много сочувствующих ему было, почитай в каждой семье. Жалели. Приходили, спрашивали Санду, помочь ли чем? Но больше приходили поглазеть, полюбопытствовать, здоровеет ли поранетый?.. Постепенно поток гостей стал иссякать, а потом и вовсе прекратился. Забыли о нем даже те, кто когда-то называл его своим другом. Только мамка ломалась за ним ухаживамши.
А Ольмины ноги таяли как снег по весне, становились все тоньше и прозрачнее. Ольма ходил под себя и дурной запах пропитал всю избу, казалось, насквозь. Даже несмотря на то, что мамка омывала его по два раза в день, он казался себе шанявым и воньким скорлатьем. И сейчас, взрослый парень, он был беспомощнее сосунка-ребятёнка.
Когда мать своими натруженными руками приводила его тело в порядок, он от бессилия кусал кулак и стонал сквозь зубы. Санда думала, что сыну больно и еще нежнее и еще заботливее ухаживала за ним. Ольма смотрел на мать, и удивлялся – никогда до этого так близко ее не видал. В густых рыжих косах Санды сын замечал серебряные нити, которые будто паутинки осенних паучков, застряли в ее волосах. Мамкины руки, которые он с титешного возраста помнил пухлыми и мягкими, стали узловатыми, кожа была постоянно красной от щелочи, которой мать омывала беспомощные чресла сына, чтоб истребить неприятный дух от его безвольного тела. И будто бы непосильный груз лег раньше времени на ее еще не такие уж и старые плечи – она сгорбилась, руки ее вытянулись до земли, а взгляд потух. И все чаще украдкой она тяжко вздыхала в своем углу в конце дня, думая, что Ольма спит и не слышит ее вздохов.
Читать дальше