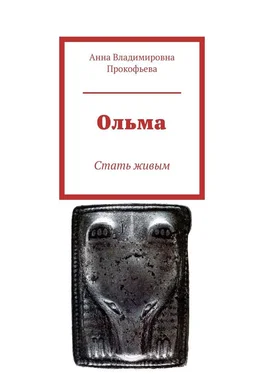Дошли. Встали на краю маленькой опушки, опустили настольник с ествой на наст и продолжили трапезу, стараясь сильно не шуметь и с опаской поглядывая на противоположный край. Там под старым еловым выворотнем, застыв снежным бугром, через малый продух дышала паром берлога. Ольма подрагивал от возбуждения, перемешанного со страхом: «А вдруг, как не завалю? Вдруг, кто под руку сунется? Не-ет! Там мой маска! Мой первый медведь! Мой!» – стучало в висках, пока мужики нарочито степенно заканчивали брашно. Оглодки с поклоном раскидали округ под кусты и медленно и сторожко двинулись к берлоге, настропалив рогатины и ножи. Вараш перехватил свое копье и сунул его в продух, пошевелил им там, потыкал, прислушался – тишина. Только пар малым облачком вылетал в морозный воздух. Мужики застыли. А молодой охотник задорился, вытаптывал снег под ногами, невольно переступая ногами, тихо взрыкивал, разжигая свою ярость. Ему не терпелось поскорее вступить в бой со страшным зверем и победить. Победить самому и чтоб никто не смел сказать, что он неумеха и кулема. Ведь он сам так называл слабаков и смеялся над теми, кто был хуже него. Сердце билось неистово, кровь бежала по жилам, ноздри раздувались, зубы скалились, а руки тряслись от собственной горячности и он до скрипа сжимал деревко своего оружия, застыв натянутой струной.
Вараш опять запустил рогатину внутрь, оттуда наконец-то послышался недовольный рык потревоженного зверя. И тут же Ольме застила, вдруг, глаза красная пелена неистовства и он, ответив лесному хозяину таким же рёвом, прыгнул к продуху, отталкивая Вараша в сторону. Крыша берлоги, державшая до этого легконогого и мелкого Вараша, под крупным и тяжелым Ольмой провалилась. В сей же с этим миг могучий зверь распрямился. Широкий взмах лапой – и тело Ольмы отлетело в сторону, ударившись с еле слышимым хряском о ствол старой ёлки. Он упал в сугроб в стороне и затих. Медленно проваливаясь в темноту боли и забытья, неудавшийся зверобой слышал, словно через толстую перину яростные крики мужиков и рев зверя, а потом и его предсмертный хрип. «Завалили…” , – подумал Ольма и потерял сознание.
Когда шум жестокой ловитвы утих, боловские охотники поняли, что запромыслили млечную медведицу – из сосцов ещё текло молоко, а в глубине берлоги что-то возилось и попискивало. Когда юркий Вараш спустился вниз, на пышной подстилке из мха и сухой травы охотник с удивлением обнаружил голого розовощекого младенца, который сучил ручками и ножками и с надрывом пищал.
– Мужики! Кидайте настольник, тут младеня! Заверну хоть от мороза!
Запеленав беспокойного младенца в вышитое льняное полотно и сунув сверток за пазуху, Вараш легкой птицей взметнулся из логовища наверх. Мужики сгрудились вокруг, надсадно дыша после боя со зверем, и вопрошающе глядели на Вараша, выдыхая парки в сиреневый сумрак еловой тени.
– Нечисто тут, – задумчиво выдохнул Вараш, – Неподобица какая-то! В медвежьей берлоге младень-сосун, да в конце зимы, да еще и живой! Чудно! Я так, мужики, мерекаю и вы в том свидетели – надо сего сосунка Кондыю показать, арвую нашему. Он наш суро, он и решит, что делать. И медвежью тушу не испоганьте, мало ли чё? В бол отнесем, пусть и ее Кондый глянет.
– Вараш, а что с Ольмой-то делать? – спросил кто-то из мужей, похоже, это был сердобольный Ваган. – Дышит еще, только бледён больно, но кровишши нигде не видать…
– Ой, горе, горюшко! – вздохнул Вараш, комкая в сильной рукой кунью шапку, – Не повезло парню! Не иначе становину надломил. И его берем, не бросать же… Творите волокуши, потащим и его к арвую тож…
***
Пришел в себя Ольма на взлобке посреди селища. Лежал на утоптанном снегу рядом с тушей лесной хозяйки. Неподалеку стоял Вараш с каким-то кульком в руках. Буй рода говорил, что из-за дурости одного, которому вожжа под хвост попала, не должны лить горюхи остальные, да голодом сидеть без добычи. До лета далеко, запасы осенние уж на подходе. Кто с калекой естьвой поделиться? Увечный обществу не нужен и что его, такого большого прожору их селищу не прокормить. Его слушали все и молчали и не противились – зима она такая, лишних да слабых не любит. Сейчас калеке кусок отдашь, опосля сам без куска останешься.
Только мамкины всхлипы узнавал Ольма на слух. Жена бывшего буя боялась идти против общества, которым руководил нынешний буй Куян. Скор он был на расправу и суров, и весь бол держал в ежовых рукавицах. Куян закончил драть жёрло и занес копье в широком замахе, целясь калеке в грудь – солнечные холодные блики сверкнули на бронзовом наконечнике… Но острому жалу преградили дорогу и к искалеченному неудачливому охотнику бросилась Томша, прикрыв собою Ольму… «Любит!» – окатило Ольму радостью. А к народному сборищу поспешал, опираясь на причудливый резной посох, суро Кондый, сопровождаемый Ваганом.
Читать дальше