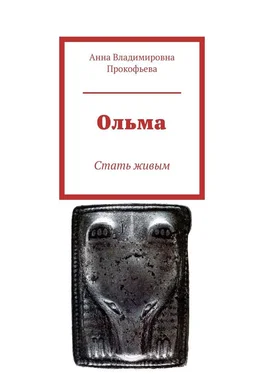– Не тянись так, сейчас сам подойду, тяжко ж тебе… – и шагнул к Ольме, сел рядом прямо на землю, пачкая полотно штанов и прислонившись локтем к плечу охотника. – Выбирай, которое тебе по душе? Учитель-спаситель, – хмыкнул парнишка и указал рукой на поломанные заросли можжевельника. И тут Ольму озарило снова:
– Так ты нарочно ярился?!
– Ну, да. – Пожал плечами парнишка. – Когда зверею, всегда десятикратно сильнее становлюсь. Нам же надо было можжевельника срубить… Правда, раньше, когда меньше ростом был, остановиться сам не мог, пока Кондый не спеленает. Но он учил меня, как силой этой управлять, чтоб не она мной вертела, а я ею.
– И как он тебя учил? – тихо спросил Ольма
– Да… – махнул, испачканной в липкой смоле ладонью, – Туес с болотной водой на голову ставит, да потом то обидные слова говорит, то прутиком хлещет, то загадки загадывает… Надо стоять, не шевелиться и на загадки отвечать. А коли злиться начинаю и устоять невмочь, туес опрокидывается и водица болотная вмиг звериное нутро охлаждает.
– Эх, меня бы он в ученики взял, хоть год назад… Не ползал бы нынче ящерицей… Эх..
– Дед говорит: «Не жалей о бедах, по уму и по делам уроки свои боги всегда вовремя раздают». Хотя, не пойму, мне-то за что с рождения весь урок этот, – обмахнул свое чумазое лицо Упан, – разве что в материной утробе нагрешить успел, – горько усмехнулся не по годам рассудительный мальчишка. – Ну, чего, будем можжевеловые дерева выбирать, или здесь спать ляжем, чтоб по утру эти обломки ворошить? Только зябко тут спать-то – оглянулся и передернул плечам Упан.
– Да-а, тебе в расползшейся рубахе не жарко-то на земле спать-то будет… – Ольма глянул искоса на мальчишку, – А ты будто бы обратно и не уменьшаешься. Выше телом, да плечами шире стал. Смотри-ка, лодыжки из штанов выглядывают на целую ладонь, рубаха на спине расползлась, и локти из рукавов видны…
– Вот, незадача, – Упан снова поежился, – да, так оно завсегда бывает после того, как красная пелена мне глаза застит…
– Вон, те два с краю, вполне подходящи, ты их первыми снес, да и не так сильно изувечил… Да и еще по парочке возьмем про запас. Возьмем, да и пойдем ко мне в шалаш, костер разведем… Мне матушка еды принесла, не оголодаем. Только можжевеловые палки тебе тащить. Мне-то несподручно, сам знаешь, – глухо закончил Ольма.
– Уговор! Ты только потом ублюдком не обзывайся, я у деда не приживалкой, а внуком живу. За деда мне обидно, а не за себя.
– Уговор! – тут же согласился Ольма. – И ты меня ящерицей не хули. Пошли, что ли?
***
Лето давно перевалило через свою макушку и ночи летние, хоть и были по-прежнему теплы, но с каждым днем становились темнее, да чернее, хоть глаз выколи. Пара невольных приятелей будто целую вечность пробирались по бурелому. Тропинка потерялась где-то в палой листве и только нюх Упана уверенно вел их в сторону реки, туда, где прибрежные камыши пахли тиной и журчащей водой, туда, где стоял крепкий Ольмин шалаш. Уж ночное небо стало светлеть с восходного краю и с реки полз густой молочный туман, только тогда они, измученные переживаниями и приключениями, бросив свою добычу в высокую траву у шалаша, заползли сразу вдвоем во внутрь и не разжигая огня уснули, прижавшись теплыми боками друг к другу.
Утро встретило их густым туманом, оседающим тяжелыми каплями на всем вокруг. Ольма проснулся от странного ощущения, что его недвижимым ногам холодно и мокро. Проснулся, прислушался к себе, попытался пошевелить конечностями. Не вышло. «Обрадовался! Как же! Все только блазнится, не будет чуда, сломался навеки, пустой надеждой не стоит тешиться,» – горько размышлял Ольма. И в вечной своей досаде сжал зубами кулак. Это неосторожное движение как раз и потревожило чуткий сон Упана. Тот завозился, заворочался и сонно произнес:
– Слушай-ко, Ольма, сдается мне, что твой шалаш усох со вчерашнего дня, или ты ночью в темноте лишку съел? Что-то тесно стало… – Так ворча, парнишка выбрался задом из шалаша и распрямился, стоя коленями во влажной от росы траве. С хрустом потянулся, расправил плечи и Ольма приподнявшись на локтях задумчиво стал разглядывать Упана. Тот за ночь будто бы еще больше раздался в плечах. А расползшаяся на нитки рубаха так и норовила осыпаться на землю с могучих плеч подростка. «А два дня назад еще мальчишкой казался, а сегодня с утра уже пушок над губой пушится, да голос ломается» – размышлял калека.
– Чего уставился, али на мне узоры нарисовались? – буркнул парень. – Да-а, рубаха в хлам, – оглядывая себя продолжил Упан, – хорошо хоть зад после переворота не растет – шутканул сам над собой приятель Ольмы. Темные волосы его тоже удлинились и рассыпались густой темной волной до плеч. Упан неумело их пытался заложить за уши.
Читать дальше