— Не люблю я вас чертей-азиатов. Ох, не люблю, а вот приветить вы человека умеете, м-молодцы.
Омартай слегка отстранился от поручика.
— В степи живем, может, не знаем, как надо?
— Ну-ну, не прибедняйся, — похлопал его по плечу Ильиных. — И, сильно качнувшись, спросил: — А ты знаешь, старый ишак, когда я в последний раз пил шустовский коньяк? При каких обстоятельствах? На что надеялся, когда пил?.. Ни ч-черта ты, образина некрещеная, не знаешь. Всю жизнь один айран или водку глотал, как мой родной папаша.
Омартай виновато разводил в стороны руки.
Поручик попытался встать, ничего из этого у него не получилось. Он секунду бессмысленно пялил глаза в темноту, потом все же разглядел Омартая и решительно предложил ему:
— Оружие надо? Купишь?
— Ой-бой! Зачем? — отшатнулся старик.
— Как зачем? — удивился в свою очередь поручик. — Сотню винтовок и пять новых «максимов» продадим.
— Аблай, компаньон мой, сказал, муку надо покупать, про винтовки не говорил.
— Значит, не возьмешь? — таращил на старика вконец осоловелые глаза офицер. — Ты представляешь, рожа немаканая, что такое пять «максимов», какую они могут мясорубку устроить?
— Не говорил Аблай, — тянул свое Омартай.
— Тогда ты не друг мне, вот что, — заявил Ильиных, потянулся за пиалушкой и помрачнел. — Это как называется?
— Конвяк зовется, — не понял Омартай.
— Из чего пью?
— Кисе.
— Сам кисе, чалма старая, обыкновенная чашка, лоханка по-русски. И ты меня шустовский коньяк из чашки заставляешь лакать? Да за такое оскорбление офицера тебя, торгаш грошовый, выпороть мало. Почему рюмок к столу не подал?
— Была рюмка, сломал, недавно сломал. На рыбницу шкап не возьмешь.
— А коньяк где взял?
— Гурьев ходил базар, купил на рыбу.
— Врешь!
Позади поручика, шарившего по карманам, выросли фигуры Избасара и Кожгали. За ними неизвестно откуда появились Байкуат с Акылбеком.
Но Ильиных, не найдя, что искал, осушил еще одну пиалку, огляделся, решительно выдернул из-под головы спящего рядом Жумагали подушку, пристроил себе ее и вскоре сладко со многими переливами похрапывал.
Омартай велел Ахтану расседлать коней, перегнать на берег, где росла трава, стреножить и пустить пастись.
— А как же, ата, с пропуском в Ракуши? — обеспокоенно спросил Омартая Избасар.
— Какой пропуск? Видишь! — показал старик на спящих. — Утром сделаем пропуск, а сейчас спать будем.
Но спать Избасару не пришлось. Его позвал Акылбек и опять повел через камыши к рыбацкому сараю. Там их ждали Дорохов, Гайнулла, еще двое пожилых незнакомых Джанименову казахов и русский паренек с таким веснущатым лицом, будто бросили в него с близкого расстояния ржаными золотистыми отрубями и они, не успев разлететься, осели у него на носу и щеках.
В сторонке, возле стены, стоял со связанными руками Мазо. Он, казалось, усох за сутки и стал ниже на полголовы. Губы у него мелко дрожали.
Кивнув Джанименову и Акылбеку, указав им на свободные чурбаки, Дорохов повернул голову к пареньку.
— Расскажи еще раз, Тимоша, про эту падаль, пусть новые товарищи послушают. Говори все, считай, что перед революционным судом рабочего класса выступаешь.
Тимоха глотнул воздуха, рванул ворот так, что с него осыпались пуговицы, и шагнул чуть ближе к Мазо.
— Я его, — начал он торопливо, — в момент признал. Как Бейсеке его на песок скинул, я увидел его и враз… Он, подлюга. У меня будто кто все жилы подрезал. Через тыщу лет я его признаю, кровососа, — паренек, вздрогнул, замолчал, успокоился и заговорил медленнее: — Пахомовка наше село зовется. Он туда приехал, а там, выходит, кулаки только его и ждали. На ем были погоны и револьверт сбоку. Ну, а после, когда ночь подступила, он с кулаками по домам зачал ходить, в которых сельсоветские и какие в ячейке состояли. Всех их позабирали. Братуху моего схватили. Он секретарем ячейки, ну, служил, аль как? — замялся паренек. — Назначенный был, словом, туда, как партейный. Этот зверюга его каленой проволокой пытал. А после зарубил саблей. «Это, говорит, вам, станишники, на зачин». Ну и зачали. Баб-рыбачек, которые сами партейные или мужики, у которых братья ли за комбеды шли, тоже изничтожили. Вывели на берег Волги и рубили. Кого живыми в прорубях топили. А он стоит, гад ползучий, курит, значится, да на бумаге кресты ставит против тех, кого кулаки кончают.
Мазо дрожал все больше.
— Может, скажешь-таки свою фамилию? — спросил его, видимо, не впервые кузнец.
Мазо опустил голову, ноги у него подогнулись. Подпирая стену спиной, он медленно сполз вниз и сел на земляной пол. Понял: «Не умолить, не уйти от расплаты».
Читать дальше
![Залман Танхимович Опасное задание. Конец атамана [Повести] обложка книги](/books/400775/zalman-tanhimovich-opasnoe-zadanie-konec-atamana-cover.webp)
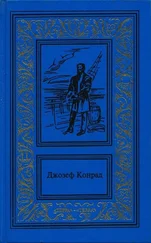


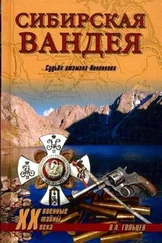


![Василий Сахаров - Сын атамана [publisher - МедиаКнига]](/books/414756/vasilij-saharov-syn-atamana-publisher-mediakniga-thumb.webp)
![Владимир Богомолов - Особое задание [Повести и рассказы]](/books/434499/vladimir-bogomolov-osoboe-zadanie-povesti-i-rassk-thumb.webp)



