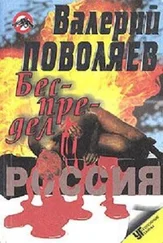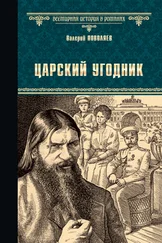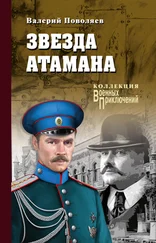Гарри Гудини не умел есть железо — не картошка и не печёные рябчики это, а честная компания повела себя пренебрежительно, с ухмылками: не всё, оказывается, по зубам «королю цепей». А потом один ходячий червонец — богатый купец, у которого, кстати сказать, золотых червонцев было столько, что он мог ими выстелить дорогу от Москвы до Петербурга, на пари загнал фокусника в железный сейф. Очень интересно было Червонцу, сколько сможет Гудини просидеть в этом шкафу без воздуха. По его расчётам, минут через десять этот самый хвалёный фокусник должен будет замолотить кулаками в стенку сейфа, запросить пощады, но прошло десять минут — Гудини молчит, как рыба, даже не шевелится в железном шкафу, двадцать минут прошло — по-прежнему молчит, тридцать минут — ни звука. Ни царапанья, ни скребков, словно «король цепей» умер.
Червонец забеспокоился: а вдруг действительно Гудини — того… А? Тогда ведь Червонца к ответственности привлекут! Червонец перестал улыбаться, рывком поднялся с места, чуть ли не бегом понёсся к сейфу, отжал тяжёлую толстобокую дверь, распахнул её пошире, чтобы дать возможность воздуху сразу наполнить обескислороженное нутро шкафа, и в ту же минуту изумлённо откинулся назад. Вгляделся недоверчиво в темень шкафа: Гарри Гудини как ни в чём не бывало сидел в углу шкафа и потирал руки, потом потянулся, поднялся и вышел наружу — худенький, изящный, словно мальчишка, каких используют на побегушках, невозмутимый.
Оглядел Гудини честную компанию и сказал, что шкаф больше не пригоден для того, чтобы в нём держать деньги.
— Почему-у? — первым задал вопрос изумлённый Червонец, за ним этот вопрос повторили остальные купцы: действительно, какая связь между деньгами и тем, что в шкафу отсидел «срок» Гарри Гудини?
— Осмотрите шкаф и вы всё поймёте, — сказал «король цепей».
Купцы осмотрели шкаф и невольно зацокали языкам, будто недовольные белки: прочный надёжный шкаф в нескольких местах был продырявлен. Как и чем сделал дыры Гудини — одному богу да самому Гудини и было известно.
Наверное, права была Ирина: цирк — это интересно, умно, цирк если западёт в душу, то на всю жизнь, и правильно, наверное, сделала, что избрала эту профессию.
На улице было жарко — стояло самое пекло, середина июля, воздух был тяжёл, спрессован и совершенно не продувался, и тишь к тому же вызвездилась отчаянная. Такая тишина бывает лишь тогда, когда кому-то надлежит умереть.
Немцы не появлялись, медлили. Село, предчувствуя грохот, замерло, даже, кажется, сжалось, хотя сжаться оно никак не могло. Всё оно было со школьного чердака, как на ладони.
В такой тяжёлой тиши человек невольно тоскует о прошлом, стремится вспомнить всё лучшие дни, что выпадали в жизни, и часто не может вспомнить их, — в общем, состояние хуже некуда. Каретников почувствовал, что лицо у него сделалось мокрым. То ли от пота — в этой жаре невольно превращаешься в сырую тряпку, то ли от слёз. Но ведь он не плакал. Точно не плакал.
Провел рукою по лицу, тайком, боясь, чтобы не увидели солдаты, лизнул языком пальцы. Пальцы были солёными. Так плакал он или нет? Возврат в прошлое, случается, вызывает душевное остолбенение, восстанавливает запахи и звуки, и Каретников, будучи не в силах сопротивляться, покачал головой, осуждая и одновременно жалея самого себя.
Он начал вспоминать прошлое, ту стылую ленинградскую ночь, и перед ним готовно, будто специально ожидала этого, возникла Ирина. Белое струящееся платье, ладные туфли, сшитые из добротной лаковой кожи, аккуратно расчёсанные волосы и серые, дождисто-осеннего цвета глаза. Каретников невольно потянулся к ней — слишком влекущим, зримым было видение, выкинул вперёд руку и в тот же миг охнул от боли: ударился пальцами о деревянную, с крупными трещинами балку.
Боль отрезвила его. И вовремя отрезвила: на околице села показались четыре танка, за танками, утопая в высоких пыльных султанах, поднятых траками, бежали гитлеровцы. Видение исчезло так же стремительно, как и появилось…
Демобилизоваться Каретникову пришлось не скоро — в феврале сорок шестого года. Каретникова хотели оставить в армии — он был командиром перспективным, грамотным, нужным, предлагали пойти учиться в академию, но Каретников упёрся на своём: уж коли положена демобилизация — будьте добры, демобилизуйте!
Он приехал в Питер и не узнал города — ничего общего с тем тревожным холодным Ленинградом, где мёртвых было больше, чем живых, который у него остался в памяти. Город был иным — собственно, каким он и должен был быть, каким Игорь Каретников и помнил его до войны. На такси добрался с вокзала до Голодая, вошёл в квартиру, — дверь была не закрыта, и он вошёл без стука, прислонился затылком к косяку, стоя на возвышении порога: мать, старенькая, седенькая, сгорбленная, даже не повернула головы. Она сидела над какой-то книжкой и старательно закладывала страницы бумажками, — Любовь Алексеевна, как знал Каретников, работала теперь в заводской библиотеке, старая её библиотека сгорела, попала немецкая бомба-зажигалка, — наверное, кому-то готовила материал. Возможно начальству.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу