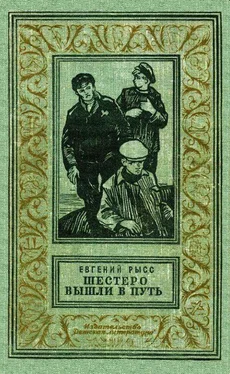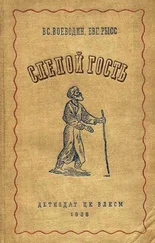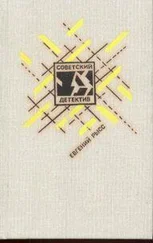Нас раздражали эти люди, смотрящие на нас из окон. Мы совсем не были склонны радоваться успеху у пудожских мамаш и девиц. Мы свернули в переулок, чтобы выйти в лес. Перед сверкающим небесной голубизной домом Катайкова стояла коляска. Мы шли, не глядя на этот дом, как будто его нет, как будто мы и не знаем, кому он принадлежал. И вдруг открылась калитка, и в аккуратной куртке, в новой фуражке, в блестящих сапогах к коляске подошел Малокрошечный. Несколько человек вышли его проводить. Один сел на козлы, другой устроил в ногах чемодан, третий под локоток подсадил хозяина. Малокрошечный устроился поудобнее, добродушно кивнул головой провожающим и негромко сказал кучеру: «Трогай!»
Сытая лошадка мотнула головой и с ходу взяла рысью. Коляска покатилась по мягкой траве, которой заросла улица. Проезжая мимо нас, Малокрошечный снял фуражку и самым любезнейшим тоном сказал «здравствуйте».
Нам следовало ответить. Мы не ответили не потому, что хотели его оскорбить. Мы просто не нашлись и молча глядели вслед мягко покачивающейся коляске. Катайкова свалили, и вот вместо него - Малокрошечный, богатый, уважаемый человек, обладающий силой и властью. А мы были и остались мальчишками, голодранцами, болтунами, у которых только фасону много, которым цена три копейки в базарный день.
В доме напротив сидела у окна толстая женщина, положив круглые локти на подоконник. Она, как было принято в Пудоже, громко сообщала кому-то - наверное, мужу, находившемуся где-то там, в глубине комнаты, - свои наблюдения и выводы.
- Расфуфырился, - сказала она, не поворачивая головы, так что мы сначала подумали, что она обращается к нам, - петушится, а настоящего весу в нем нет. Боится. Катайков-то посильней был - и то сломали.
Из глубины комнаты донеслось сочувственное бормотание.
Мы прошлись над рекой, молча миновали березовую рощу, где я когда-то увидел Ольгу и Мисаилова, и снова свернули на городские улицы. Возле лавки Малокрошечного стоял приказчик, взятый взамен Гогина, лихой парень в фуражке набекрень, с чубом над лицом, покрытым угрями. Он лузгал семечки и смотрел на нас подчеркнуто равнодушно. И снова из-за занавесок смотрели на нас пудожские девицы и раздобревшие домохозяйки. Какая-то женщина, выглянувшая из калитки, поздоровалась со мной, любезно, даже искательно улыбаясь. Я не сразу ее узнал: это к ней я пытался наняться пилить дрова и она меня приняла за разбойника. Сейчас она, кажется, гордилась знакомством со мной.
Да, старый уездный Пудож изменил к нам отношение. А нам это было безразлично. Плевать нам было на то, что думал приказчик, лузгавший семечки, и толстуха, положившая локти на подоконник, и моя знакомая, стоящая у калитки…
Мы вернулись домой. Харбов и Мисаилов сели за книги, а мы накололи дров, наносили воды - всё молча, ни слова друг другу не говоря.
Очень подействовала на нас эта первая наша прогулка. Роща, в которой Ольга встречалась с Васей, серебряная Водла, и протянувшийся до горизонта лес, и катайковский голубой забор.
Сема Силкин взял гитару, на которой он все-таки научился подбирать кое-как простые мотивы, и заиграл нечто похожее на песню об отряде коммунаров, которые сражались под тяжким разрывом гремучих гранат. Тикачев встал, молча взял у него гитару, повесил ее на гвоздь и сел. Силкин не спорил.
Попозже забежал дядька. Он был возбужден и весел. Днем он переселял какую-то несчастную семью из подвала. Сейчас в горсовете шло заседание, в результате которого еще несколько семей должны были получить жилье. Дядька забежал в перерыве. Все его мысли были там, на заседании. Предстояла борьба. Кто-то отстаивал интересы домовладельца; дядька предвкушал свое боевое выступление.
Он даже не понял нас сначала, когда мы спросили про Малокрошечного.
- Да-да, - закивал он головой, уяснив наконец, что нас интересует. - Купил катайковский дом. Представьте себе, предъявил вексель. Юристы признали претензии подлежащими удовлетворению. Тоже, конечно, кулацкие штучки, но ничего не попишешь - закон. Он доплатил, но немного. Ему теперь воля: главный конкурент исчез. Ну ничего, дай срок, и до него доберемся.
Пробили ходики, дядька заторопился и убежал.
Харбов и Мисаилов сели заниматься, смотрели в книги, а думали о своем. Силкин перебирал струны гитары, как он умел, без мотива, а только с интонацией. Интонация была грустная. Мы с Тикачевым сели играть в шашки, но оба так ошибались и путали ходы, что, невесело посмеявшись, бросили игру. Девятин лежал на кровати и смотрел в потолок.
Читать дальше