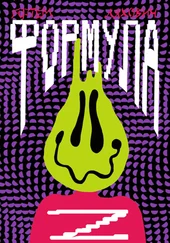– Да не Тыдыщ вреднюк, – терпеливо объяснял ему Дося, – а просто… вреднюки нам это внушают, чтобы всех растлевать, понял? Они растлевают нашу молодежь в полном отпаде от родовых корней! Чтобы мы забыли, кто мы, и не подняли бобриного взора. Понял? И получается, что нас растлевают этой попсой, а мы её хаваем и растлеваемся, потому как она нам чужая, и там одна бездуховность в ней, понял?
Лео не понимал, почему «Бум-бум» чужой, если это отечественный лаунж-панк, и почему Дося добровольно растлевается вместе со всеми. Но ему было всё равно. Он не знал, кто в нём говорит – внешний или внутренний Лео – и просто вываливал Досе всё подряд, и оно лезло из него легко, как из полного мешка.
– А знаешь что? – сказал тот, когда Лео выдохся. – Я понимаю тебя, брат. Реально понимаю, сто пудов.
Дося был непривычно серьезен, и Лео притих.
– Это внешнее, или как его там… Да, ты прав, оно всё загораживает. Я вот тоже реально не такой, какой с тобой тут треплюсь. И Тыдыщ не такой, и все. Ты прав. А не прав ты в том, что внутренние души не могут общаться, чтобы внешние не загораживали. Могут. Вот прям как ты говоришь – душа в душу, и чтобы всё понимать. Но это только в одном случае…
– В каком?
– Если их повяжет общая идея. Великая идея. Бобрая идея. Тогда они её все вместе переживают, и получается, что они как братья, или даже ещё ближе. Мы, когда поем ту же «Бобродину», или «Мы вам ещё покажем» – знаешь… – Дося сладко зажмурился. – И ты тогда как мысли читаешь, и чувства тоже, и мы все как одно целое. Я не могу это словами… Вступай в бобронавты – поймешь сам.
***
Так Лео стал бобронавтом.
Ему по-прежнему не нравилась показуха, и эти марши по бульвару Самопожертвования, и эти крики на весь Боброполь, которые назывались пением, и хвост он носил только в школе и на мероприятиях… но Лео честно старался быть, как все, и ждал этого волшебного единения, которое их бобровод Валидуб назвал «эгрегором» – «когда много „я“ становятся единым „мы“».
Лео ощущал, и очень ясно ощущал такой эгрегор: когда все впускают в себя высоту Боброго Дела и чувствуют, что они на стороне света, а свет – на их стороне, и вместе они сила, и пусть враги лязгают зубами, потому что…
Он даже всхлипывал, представляя себе такое единение, против которого (он понимал это) – против которого бессилен любой враг и любое зло. И ещё он понимал, что всем героям всех историй не хватало именно такого единения, и поэтому они все гибли, и добро торжествовало только морально, а этого Лео всегда было мало, отчаянно мало. Добро должно торжествовать так, чтобы… чтобы и атома от врагов не осталось! А из наших чтобы никто не умер и все были счастливы. Все-все до единого, и на меньшее Лео был не согласен.
Он знал, что это детские мысли, но чувства в них вливались совсем не детские – острые и высокие, как флагштоки, даже голова кружилась от них. И это он тоже знал совершенно точно.
Но у бобронавтов не было ничего подобного. Лео боялся себе это проговорить, пока наконец не устал увиливать от внутреннего Лео и не признал: бобронавты отличаются от любой тупой тусовки только тем, что присобачили к себе Бобрую идею, которая шла им, как лифчик носорогу.
Все свои надежды Лео возлагал теперь на боевую бобродружину, куда мог вступить, когда ему стукнет восемнадцать. Но и в дружине было всё то же самое, и военная форма не приближала эгрегор, а только отдаляла его в какую-то совсем уж дальнюю даль. Лео вообще не представлял, как эгрегор сочетается с командами и «так точно».
А может, он просто устал от этого лета, самого дурацкого лета в его жизни, набитого экзаменами, ночным висением в гугле и непонятками с мамой.
***
Раньше она не мешала его бобриной жизни, но и не вникала в неё (а Лео иногда хотелось, чтобы эгрегор начинался с мамы). Она не поддерживала и отца – Лео смутно помнил, как они ругались, и мама кричала – «всю семью угробить хочешь?..»
Одной из причин, толкнувших Лео в бобронавты, был стыд за Авву Дворского, вреднюка и правокача. Лео знал, конечно, что тот искренне заблуждался, но не мог осмыслить: как отец, такой умный и образованный человек, не понимал, что восставать против Боброго Дела плохо? Ведь это так просто, даже маленькие дети понимают. И в школе учителя всегда косо поглядывали на Лео, и только в старших классах, когда тот пошел в бобронавты, стали улыбаться ему и здороваться за руку.
Он никогда не говорил об этом с мамой, но думал, что ей тоже стыдно за отца, и она стесняется говорить о нем. И ещё Лео думал, что мама будет рада сыну-дружиннику…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу