1 ...6 7 8 10 11 12 ...30 В Слободе, как правило, в последнее время почти ничего не происходило. Царь чуть ли не целыми днями молился, иногда принимал людишек из разных приказов. Некоторые из них – Разрядный и Посольский ужо переехали сюда из Москвы, но находились они за кремлевскими стенами, в посаде.
А тут произошло неслыханное – примчавшийся из Разбойного приказа Тимофей Никитин напоролся на свой собственный кинжал. Конечно, с кем беды по глупости не случается, но дьяк-то прискакал по какому-то срочному делу. Орал тут на весь двор – « Желаю немедля к царю!» Ну да, замухрышка выискался, «желаю», да еще «немедля». Обожди пока государь сам соизволит позвать. Велено было Тимошке на летней кухне переждать – там, где опричники и стрельцы из поместного ополчения кормятся за одним большим столом под лыковым навесом. Малява тогда в пекарне находился. Хоть и готовил еду для Темрюковны её повар, тоже из Кабарды, злой как собака Абу, но сладкие пироги она просила печь только Маляву. И вдруг дикий крик.
Выбежал из пекарни Смелов весь в муке и меде, а у стола дьяк валяется с кинжалом в груди, ногами дергает, хрипит. А рядом Бориска Годунов с конюшни. Увидал повара и тут же кинжал из Никитина выдернул. Кровища из того фонтаном, всю скамью залила.
– Что ж ты наделал! – в ужасе закричал Малява.
Бориска поворотил на него свое смуглое, с большим крючковатым носом лицо. Его темно-карие, несколько раскосые, как у татарина глаза, были абсолютно спокойны.
– То не я, Горыня Михайлович, он сам себя зарезал.
– Как так?
– За водой я на пруд лошадям ходил, – Борис кивнул на полные ведра у стола. – Он еще пошутил надо мной – что, говорит, парень, похмелье мучает? И заржал сам, как конь. А когда вертался, гляжу дьяк ножик свой в кружок на земле бросает. Кинжал не острием, а рукояткой воткнулся. Он пошел к нему и оступился. Прямо на лезвие и напоролся. Перевернул я его, а он, вон, ужо только булькает.
– Булькает, – передразнил Малява. – Теперь готовься к избе пыточной. Кто тебе поверит. Дьяк-то сломя голову к царю мчался, донесение, видно, важное имел.
– Ну-у, дела ёндовые…, – сказал, появившийся за спиной повара стряпчий Василий Губов.
Оттянул дьяку ужо тяжелые вики, пощупал ладонью под подбородком. Выругался. Затем начал его обыскивать. На стол кинул монеты (одну, вынутую изо рта дьяка, незаметно сунул в карман), мушкет, мешочек с солью. Более ничего не найдя, направился к его коню. В мешке под седлом с метлой тоже ничего особенного не нашел – ржаная лепешка, да фляга с водой. Три раза свистнул. Тут же прибежали охранные кромешники.
– С этих двоих глаз не спускать! Тело в ледник.
А вечером, когда закончилась осенняя снежно-дождевая круговерть и ужо зазвонили к вечерне, стряпчий пришел к Маляве.
– Разговор серьезный есть.
– Ну, выкладывай, – насторожился Горыня. Он не любил Губова. Все людишки, слишком близкие к царю, опасны. Сам-то Малява, хоть и пользовался расположением государя, ближним человеком не считался. И был очень рад тому – чем теснее к огню, тем жарче становится, так и сгореть недолго. Это он прекрасно знал, как повар.
– Не здесь. Приходи вскорости в кабак, что на окраине посада.
– В тот, где на двери висит отрезанная башка бывшего целовальника Хомки?
– Да. Вишь, вором оказался, кромешники не сдержались.
– А ежели не приду?
– Дурнем будешь. Свою выгоду упустишь.
Малява, перебравшись вместе с государевым двором в слободу, хотел прибрать к рукам эту корчму. Вернее, сделать целовальником своего двоюродного брата Акима. Но так как все питейные заведения теперь стали государевыми, без согласия Ивана Васильевича было не обойтись. Когда царь услышал просьбу повара, ухмыльнулся:
– Я с местничеством и кумовством бьюсь, для того и опричнину создал. А ты хочешь, чтобы ради тебя я великое начинание предал? Что ж, бери кабак, а я сейчас же пойду сдамся кромешникам, пусть меня за измену пытают.
– Что ты, государь! – упал в ноги Ивану Малява. – Прости блудяшку неблазного.
В темном, затхлом кабаке, пропахшем гнилой капустой и перегаром, гуляла стрелецкая десятина из мордвин, казаков и татар. В углу, у двери в кабацкий погреб, были сложены их пищали. Они то спорили, почти до драки, то обнимались, говоря на самых разных диалектах, при этом прекрасно понимая друг друга. Пили крепкое хлебное вино, которое после начала Ливонской войны, на польский манер стали называть водкой, закусывали рыжиками и кашей. Десятник, выделявшийся особым, сложновытканным узором на синем кафтане, пытался привлечь к себе внимание, произнести что-то значимое, но на него никто не обращал внимания. Каждый раз после неудачной попытки, он укоризненно тряс головой и, раскачиваясь на некрепких ногах, опускался на лавку.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
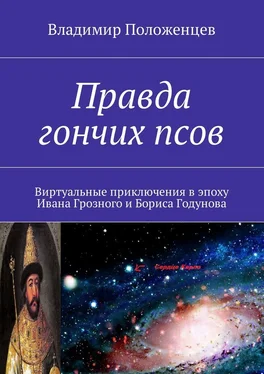




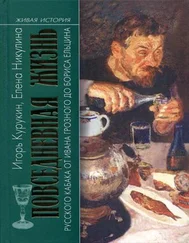

![Елена Арсеньева - Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного]](/books/311435/elena-arseneva-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-g-thumb.webp)



