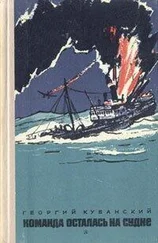Долог, очень долог показался рыбакам полный тревог и постоянного ожидания опасности короткий осенний день. Зато длинная ночь прошла необыкновенно быстро. Словно разным временем измерялись день и ночь: светлые часы — бесконечно длинные, темные — короткие.
С одним никак не могли свыкнуться — не только новички, впервые ступившие на палубу траулера, но и бывалые рыбаки — с затемнением. Все наружное освещение “Ялты”, даже топовые огни, было выключено. Иллюминаторы задраены наглухо. Лишь над входами в палубную надстройку и жилые помещения под полубаком еле заметно выделялись прикрытые металлическими козырьками синие лампочки.
Затемнена была и ходовая рубка. Укрепленная под потолком синяя лампочка бросала расплывающийся круг света на машинный телеграф и штурвал, слегка отсвечивала на блестящих и светлых предметах.
Не только работать, даже передвигаться по палубе, загроможденной бочками, короткими толстыми досками для сборки трюмных чердаков, протянутыми от лебедки к траловым дугам стальными ваерами, было трудно. Уже после первых учений в Кольском заливе три матроса ходили со ссадинами, а штурман Анциферов с синяком под правым глазом.
— Затемнение нарушаешь? — посмеивались над ним товарищи. — С фонарем по палубе ходишь? А еще начальник ПВО!
— Фонарь-то синий, — отшучивался Анциферов. — Под цвет затемнения!
Иван Кузьмич ходил по темной рубке, прислушиваясь к доносившимся с палубы голосам. Тралмейстер Фатьяныч с первом вахтой просматривал, вернее, прощупывал трал: нет ли в нем прорех или слабых мест? Матросы путались в растянутой на палубе сети, мешали друг другу. Учить надо людей. Тренировать и тренировать. Но как тренировать? Старые, промеренные десятилетиями навыки полетели к чертям. А новые? За трое суток их не выдумаешь…
Неожиданно в окнах рубки отразился слабый, зыбкий свет. В стороне над морем повисла сброшенная с самолета ракета — “люстра”. Постепенно разгораясь, она осветила мачты и спасательные шлюпки, замерших на палубе матросов.
— Курс двести шестьдесят! — негромко скомандовал Иван Кузьмич.
— Есть курс двести шестьдесят! — также негромко ответил рулевой, быстро перекатывая штурвал.
Траулер круто заворачивал в сторону от самолета. Вторая “люстра” вспыхнула уже значительно левее. Отсветы на мачте и шлюпках таяли и скоро погасли совершенно.
В рубку вошел Анциферов. Иван Кузьмич сдал ему вахту. Осторожно, на ощупь, ступая по невидным ступенькам, спустился он наружным трапом на палубу. Первое, что услышал Иван Кузьмич, — смех и одобрительные возгласы:
— Вот дает!
— Ну и травит Оська!
Впервые с начала рейса Иван Кузьмич испытал облегчение. Люди смеются. Даже вражеские “люстры” не действуют на них. Хорошо!
Не замеченный никем в темноте, он остановился возле работающих матросов.
— …Мне в жизни всегда везло! — разглагольствовал Оська. — Во всем. Кроме помполитов. Стоит мне прийти на судно, как меня начинают перевоспитывать. Вот и наш комиссар! Завел в салоне разговор. Портишь, говорит, свою биографию. Какую биографию? Откуда у меня биография? С восьми лет меня иначе, как босяком, не звали. В десять я бросил школу. Хотите знать почему? В апреле очень хорошо клевал бычок…
— К чертям собачьим тебя с твоей Одессой вместе! — рассердился Фатьяныч. — Иглу обронил. Ищи теперь…
— Минуточку! — остановил вспыхнувший было смех Оська. — Кажется, вы что-то сказали за чертей? Если нашу Одес-су отдать чертям, все святые откажутся от рая и придется запретить прописку в аду. Одесса! Какой город! Море! А какие песенки были в Одессе? Какие песенки! — Оська кашлянул и: запел сиплым, но выразительным голосом:
Разве ты не знаешь, что ты меня не любишь?..
Теперь эти песенки забыли. Один Оська Баштан их знает. Все старые одесские песенки запрятаны вот в этом сундуке. — Он звучно шлепнул себя ладонью по лбу. — А когда придет мне время помирать, я запишу их на толстой бумаге, переплету в красную кожу с золотыми финтифлюшками и велю положить со мной в гроб. Чего смеетесь? Мой отец, старый биндюжник, рассказывал, как семнадцать лет назад помер лучший биллиардист Одессы Сеня Купчик. Это был человек! Первый кий Черного моря и всех его окрестностей. По завещанию Сени, в гроб к нему положили: справа любимый кий, слева биллиардный шар, под голову колоду карт. А друзья Сени шли за гробом и пели: “Прощай, город Одесса, прощай, мой карантин!..”
— Прямо так и пели? — спросил незнакомый голос. — За гробом?
Читать дальше