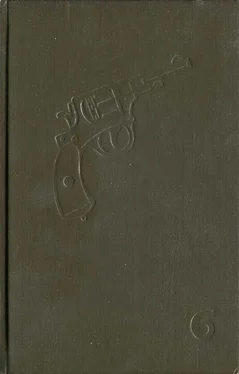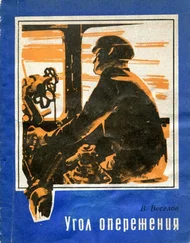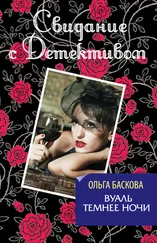Море под нами отливало металлическим блеском. В рассеянном свете утра я увидел по курсу скопление облаков: там был остров.
Грехов точно вышел на полосу, притер машину к земле. Моя кабина полезла вверх, заднее колесо запрыгало по щебенке, завизжали тормоза.
Неподалеку, между сараев, стояла машина Навроцкого, уже накрытая маскировочной сетью. Рядом разгуливал Навроцкий, словно он и не летал никуда.
«Как огонек над Берлином?» — спросил механик.
«Нормально, — ответил Грехов. — Нормальный огонек».
Подъехала машина. В ней сидели комиссар и командир полка, который даже комбинезон не успел снять.
Мы стояли в строю, и Грехов докладывал о выполнении задания. Кожей я ощущал, как солнце набирает силу. Возле нас вертелась увечная собачонка. Подбежала к заднему колесу, глядя на нас, задрала ногу, оросила «дутик» и побежала на другую стоянку.
«Когда снаряды стали лопаться прямо по курсу, — сказал Рябцев, — я подумал, всем нам карачун пришел».
«Нет, — сказал Грехов, поправляя шлемофон под головой, — я так не думал…»
«Почему?» — спросил Рябцев.
Грехов не ответил.
Я приподнялся на локте: командир уже спал.
Скоро и другие машины вернулись. Мимо нас следом за своим командиром, распустив комбинезоны, шли парни из экипажа капитана Рытова. Рытовские парни так и помнятся мне — экипажем, а не каждый в отдельности.
Командир — огромный, по-мужицки широкий в кости, с тяжелым лицом. Руки, ноги — все большое; не сапоги — колоды. Это был молчаливый, угрюмый пилот. Его уважали в полку, некоторые побаивались. Штурман лейтенант Кахидзе тоже был высокий, но по-мальчишески высокий. Длинный, хочется сказать. Какая-то юношеская была в нем стать. Ну прямо молодой грузинский князь! Радистом в экипаже был мой тезка и землячок Паша Рассохин, добродушный увалень — спал на ходу. Стрелком у них летал миловидный мальчик Гриша Колышкин: румянец во всю щеку, длинные девичьи ресницы, лицо чистое, нежное — ни одной резкой черты. И росточка был небольшого. Хотя сразу не скажешь, какой у него рост, потому что он всегда был рядом с этими верзилами.
После завтрака летчики долго не расходились.
— Кто это висел у нас на хвосте до самого Берлина? — спросил капитан Дробот.
— Это мы. — Ивин вспыхнул. — Попали в спутную струю ваших винтов, вот нас и таскало. После отпустило, я настроился… Но дальше так и шли за вами, боялись потеряться… Мы замыкали группу.
Рытов поднялся из-за стола, потер тяжелеющие веки. Щеки его пылали, тело заливало теплотой. Он вышел на крыльцо, постоял, чувствуя, как ветер студит лицо.
«А ведь я сейчас засну, — вяло подумал он и побрел в классную комнату. — Обязательно засну…»
Собираясь вместе, летчики часто заводили разговор о родных местах, вспоминали дом, какие-то заветные мелочи. Навроцкий (этот уж непременно!) или Преснецов всегда имели наготове веселую байку. А что он мог им рассказать? Хутор в степном распадке, крытые соломой избы, неказистые саманные подворья, огороженные шаткими плетнями. Бедные сенокосы, степь, сушь, пыль. Летом солнце ярилось, зимой из степи рвало ледяным ветром и заносило снегом избы и дороги. Все было дорого — и корм для скота, и дрова. Радовались, когда удавалось по случаю достать воз бросового леса или каких-нибудь обрезков. Да и те шли только на растопку. Топили больше кизяком — безлесые, голые места. Рытов и сейчас помнил горьковатый запах молочно-голубого кизячного дыма.
Все они сызмальства работали — и старший брат, и сестры-погодки. Гошка ухаживал за скотом, ездил в ночное, в шесть лет пас чужих овец. Скоро его стали брать на покос и надо было ломить наравне со всеми.
Рытов безошибочно узнавал среди летчиков сельских парней, но и с ними не находил общего языка. Спросит, бывало: «Ну а с косьбой-то у вас как?» Улыбаются: мол, чего спрашивать — отрадное дело! А он думал: черная работа! Земля дурная, трава тяжелая, овод бьет. Траву он не забудет — перепутанная, жесткая. Не косишь, не режешь, а рвешь ее. Через три ряда готов все бросить: и спину ломит, и руки, в груди горит, а коса не слушается, лезет носком в землю.
Школьником Гошка бегал к трактористу, работавшему на стареньком «фордзоне», и скоро начал ездить у него прицепщиком. А тут городской один приехал, стал звать на завод: тебе, мол, Гошка, надо к станку, поближе к машине, ты смышленый. Рытов поселился в заводском общежитии, стал токарить, вечерами учился, а однажды приехал домой с газетой «Комсомол — на самолеты!» Он тут же принялся рассказывать отцу про авиацию, но, увидев неподвижное его лицо, тяжелый и мрачноватый взгляд из-под опущенных век, спрятал газету. Отец молчал, считая, видать, все эти самолеты блажью, и еще не догадывался, что сын уже ходит в аэроклуб, изучает мотор и теорию полета.
Читать дальше