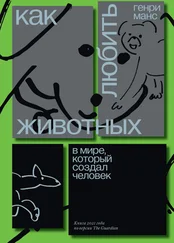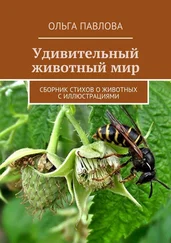«Когнитивную карту» точнее всего считать не объектом, а процессом . Этот процесс возникает из совместной деятельности физически реальных органов чувств крысы и ее центральной нервной системы. То, что такой процесс вообще происходит, можно заключить по поведению животного, причем сделать такое заключение хоть сколько-нибудь уверенно очень трудно.
Поскольку в 1940-х годах не существовало средств, позволяющих узнать, что на самом деле происходит в мозге крысы, ни Толмен, ни кто-либо другой никак не могли доказать, что в голове у крыс (или любых других животных) действительно есть «карты». Но благодаря изменениям в мире психологии, произошедшим в 1950-х годах, его идеи смогли найти более широкий отклик. По мере постепенного ослабления господства бихевиоризма психологи-экспериментаторы начали заниматься фундаментальными вопросами (на которые до тех пор по большей части никто не обращал внимания) о том, как именно животные и люди воспринимают вещи, думают о них и решают практические задачи.
Стало ясно, что стандартные модели научения «стимул — реакция» не всегда дают достоверные ответы, как и утверждал Толмен в отношении крыс в лабиринте. Великий американский психолог-экспериментатор Джордж Миллер дал этой ситуации следующее лаконичное определение: «В пятидесятые годы становилось все яснее, что поведение — это не сам предмет исследования психологии, а лишь его проявление» [458] Gazzaniga, M. S., Ivry, R. B., & Mangun, G. R., Cognitive Neuroscience (W. W. Norton, 2002). P. 18.
.
Приблизительно в то же время революционные достижения техники привели к возникновению совершенно новой научной дисциплины — когнитивной нейробиологии. Тончайшие проволочные электроды, внедренные в мозг живого животного, позволили регистрировать чрезвычайно слабые электрические сигналы — порядка нескольких десятитысячных вольта, — которые генерируют отдельные нервные клетки (нейроны). Терпеливо регистрируя тысячи таких импульсов, ученые смогли составить картину обработки сигналов, поступающих от глаз по зрительным нервам, мозгом животного.
Они показали, что нейроны разных участков зрительной коры «настроены» на реакцию на разные стимулы. Например, некоторые из них срабатывают только тогда, когда животное видит темные полосы на светлом фоне, а другие — только при наличии узких полос света на темном фоне [459] См., например, Hubel, D. H., & Wiesel, T. N. (1963). ‘Shape and arrangement of columns in cat’s striate cortex’, The Journal of Physiology, 165 (3). P. 559–568.
. Наконец появилась возможность составить подробную схему функций разных отделов мозга.
В 1950-е годы в процесс лечения тяжелых психозов и эпилепсии часто входило удаление некоторых фрагментов мозга. Неудивительно, что столь радикальные процедуры часто приводили к неожиданным последствиям.
Одним из пациентов, страдающих эпилепсией, был молодой американец, известный в течение долгого времени только по инициалам — Г. М. Однако он заслуживает того, чтобы его полное имя не было забыто — его звали Генри Молисон. Он страдал «припадками, полностью выводившими его из строя», причем на его болезнь не оказывали никакого воздействия даже самые сильные медикаменты. Его врачи решили пойти на крайние меры и провести, с его согласия, «откровенно экспериментальную» операцию, предполагавшую удаление с обеих сторон значительной части височной доли мозга, в том числе гиппокампа [460] Подобные операции на височных долях с удалением тканей, которые считаются источником эпилепсии, широко проводятся до сих пор, но гораздо более осторожно и точно.
.
Название для этой структуры, форма которой несколько напоминает морского конька, придумали анатомы XIX века. Для облегчения международного общения они использовали латинское слово hippocampus , происходящее от греческого названия морского конька [461] Ίππόκαμπος — от греч. ἵππος (лошадь) и κάμπος (морское чудовище).
. Поскольку мозг состоит из двух половин (или полушарий), весьма похожих друг на друга, в нем на самом деле два гиппокампа — по одному с каждой стороны.
Хотя способности Молисона к «пониманию и рассуждению» не пострадали, а его эпилептические припадки действительно стали менее сильными, у этой операции было «одно разительное и совершенно неожиданное последствие в том, что касалось поведения»: его память резко ухудшилась. Молисон перестал узнавать больничный персонал и даже не мог найти туалет.
Когда его семья переехала, он был не в состоянии запомнить новый адрес и не находил дороги домой, хотя по-прежнему знал, как добраться до старого дома. Молисон даже не мог вспомнить, где лежат предметы, которые он ежедневно использовал, и проводил целые часы, снова и снова собирая одни и те же пазлы. Такая сокрушительная потеря памяти не ослабла и с течением времени [462] Scoville, W. B., & Milner, B. (1957). ‘Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions’, Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 20 (1). P. 11.
.
Читать дальше
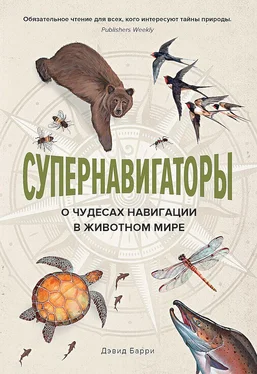

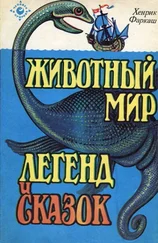
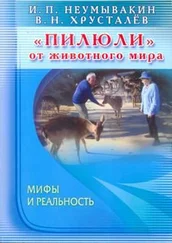
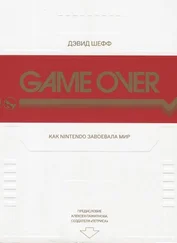
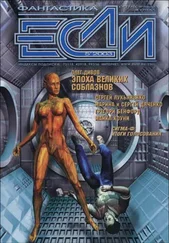
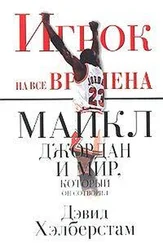
![Дэвид Барри - Супернавигаторы [О чудесах навигации в животном мире] [litres]](/books/393891/devid-barri-supernavigatory-o-chudesah-navigacii-v-thumb.webp)

![Барри Пэйн - Новый Гулливер [Затерянные миры. Том XXIV]](/books/406917/barri-pejn-novyj-gulliver-zateryannye-miry-tom-xx-thumb.webp)