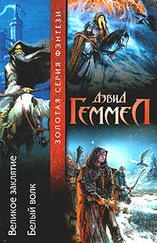Мужики играли в глупую игру домино. Вдвоем. Печь гудела, на ее краю мурлыкал чайник, в консервной банке прела заварка, пахло жареной олениной, на столе горела керосиновая лампа. В избе царили тепло, уют и покой. А стояла изба посредине Анадырского хребта, под водоразделом между реками Пегтымель и Паляваам, на берегу озерка, через которое летом тек ручей Куул — Крутые берега. В домино играли зоотехник Саша Градков и профессиональный охотник Егор Майский, в просторечье Жора. В оленеводческих бригадах совхоза окончился отел, и Градков выехал принимать пыжик. Егор отправился с ним, так как участились радиограммы из бригад о волчьих налетах. Дело уже наполовину было сделано: на крыше вездехода горбатились мешки с пыжиком, а в толстом полиэтиленовом пакете стыли три волчьи шкуры.
Стоял май, снега набухли. Через день-два тронутся горные ручьи, а надо побывать еще в двух бригадах: это займет неделю. Но они уже полмесяца колесили среди гор на старенькой машине, вымотались достаточно и поэтому решили устроить суточный перерыв в маршрутной избе, для этой цели и поставленной. Поспать хоть вволю на приличных нарах, а не в дрожащей и пропитанной запахом бензина коробке вездехода ГАЗ-47. Играли же в домино они по той простой причине, что пока спать не хотелось. Да, после трудного перехода происходит у человека, вернувшегося домой, психическая разрядка, рассасывается многодневное напряжение, течет по коже волнами с гусиными пупырышками и дрожью. Продолжается это часа три-четыре, потом приходит великая слабость и благодатный сон. Этого момента мужики и ждали.
Наконец веки стали слипаться.
— Утро на дворе, — взглянул на часы Жора, потянулся и сильно, до щекотания в носу, зевнул. — Ага, начинает схватывать! Вот у меня был случай года три назад. Тоже не спалось. Так мы с Костей... Да, три. Тогда еще Мишка новый участок получил на Аачыме, где дохлого старого кита море выбросило, и все мечтали на тот участок попасть. И вот, значит...
— А-а-о-о-у-у-у! — глухо раздалось с улицы.
— Ух ты! — сказал Градков. — На ловца и зверь. А, Жор?
— Вой-то не по времени! — удивился Егор. — Весна же...
Прихватив бинокль, они вышли на улицу. Ночной морозец заледенил ячеистую поверхность снега, игольчатые гребни хрустели под ногами. Туман, лежавший с вечера по снегам, поднялся, и сквозь него на северо-востоке тусклым пятном расплывалось солнце.
— О-о-о-у-у-у! — Вой на улице зазвучал чисто и громко. Мужики зашли за угол дома, глянули. Метрах в трехстах на бугорке у заснеженного ручья сидел волк, почему-то еще не начавший линять. На фоне оплывшего серого снега шерсть его казалась совершенно белой. Он смотрел на людей и не пытался уйти, и уже одно это было необычно — последние годы волки все увеличивают дистанцию между собой и человеком.
— Нилгыкин (Нилгыкин — белый), — сказал Егор. — Хорош!
— Да, белее некуда. — Градков опустил бинокль. — И рядом.
— Счас принесу карабин, — решил охотник.
Волк с минуту смотрел на людей и опять поднял морду.
— Ну, распелся, — сказал Градков. — Хватит.
Волк, словно поняв его, оборвал вой, встал и закружился на месте, как собака, устраивающаяся на лежку. Но он не лег, а опять уставился на людей, потом протрусил в сторону от дома метров пятьдесят. Снова глянул на людей и вернулся к бугру. Сел.
— Нич-чего не пойму, — сказал Жора. — Вот сколько лет рядом со зверьем живу, а понять его частенько... Чего вертится, а?
Волк встал, затоптался на месте и, словно решившись, побежал, с каждым шагом прибавляя скорость.
— Ишь ты! — Майский покачал головой. — Ну, идем в избу, зябко.
— Чего он приходил? — вслух подумал Градков, располагаясь на нарах за печью.— Как думаешь?
— Да вот кумекаю. Зверье, скажу тебе, умнее многих человеков. Прошлую зиму заночевали мы с Борисычем в Костином вездеходе. Только легли — слышим: по борту вездехода стук... стук. И вот...
— Жор, спать будем? — затухающим голосом спросил Градков.
Нилгыкин снова несся к избе, на каждом прыжке поджимая зад, словно тревога летела вплотную и хватала его зубами старой Эпэкэй (Эпэкэй — бабушка), учившей когда-то в юности повиноваться законам рода. А стоило ему остановиться, и перед глазами возникал измученный взгляд Ыммэй (Ыммэй — мать), в уши лез надсадный хрип.
Вчера Нилгыкин пробовал звать соплеменников. Тоскливый вой разливался над снегами, прыгал по гранитным бокам скал и гас в каменных теснинах. Никто не приходил. Он сам разогнал стаю в конце зимы и ушел с подругой в эти дикие горы. Теперь случилось несчастье, а вокруг ни души. Только тоскливо бродит в речном кустарнике песец Рекокалгын, охотник на суматошную куропатку Рэвымрэв и жирную мышку Пипикылгын.
Читать дальше