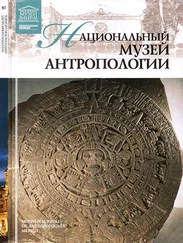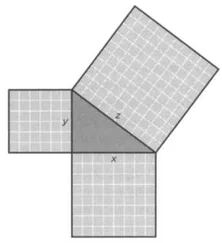— А у Маши?
— Это я скажу только Маше. Если она захочет узнать. До сих пор не спрашивала.
— А у Димки?
— И этого я тебе не скажу. Скажу только, что с ним дело лучше всего обстоит. Прошло не так много времени с тех пор, как они… расстались. Я уже написала им письмо…
— Насчёт лошадей — это только нас с Веркой касается? Или Димке тоже отдадут Рубина?
— Лошади… — сказала тётя Оля задумчиво и тихо, потом внезапно странная нотка прорезалась в ёе голосе: — Ах ло-ошади! Вечно лошади… Ох. — она замолчала вдруг, словно захлебнувшись и потом сухо добавила: — Отдадут.
Я отвернулась от неё, у меня в душе всё пело: «Днепро-Днеп-ро-Днепро-пет-ровск!», я даже тихонько вслух сказала это слово и ещё попробовала: «Светлана… Света Сарапченко». Звучало здорово, но страшно непривычно.
И когда я уже забыла совсем о том, что мы с Боргезом не одни, то услышала за спиной удаляющиеся шаги. Посмотрела: тётя Оля шла к дому тяжёлой, усталой походкой, ужасно непривычно было видеть её в платье, а не в джинсах и свитере, высокие каблуки туфель глубоко проваливались в сырую землю… Я чувствовала себя так, словно сижу в вагоне уходящей электрички. Только до отъезда нужно было ещё сделать много дел.
* * *
На ферму не в очередь пришёл дядя Серёжа. Наверное, затем, чтобы показать, как он переживает. Ну да, ведь он говорил всегда, что нам «заместо деда», и угощал нас огромными, ананасными абрикосами, бронзовыми грушами, яблоками, которые, само собой, в сравнение не шли с яблоками из колхозного сада. Мы это ели, наверное, поэтому он считает, что мы обязаны ему. Знала бы, ни виноградинки его не проглотила бы! Ему было ужасно интересно, что случилось ночью, но никто ничего не рассказывал и он пытался угадать, туманно заговаривая то с нами, то с тётей Олей. Я делала вид, что не замечаю его, хотя он несколько раз подходил ко мне, заглядывал в лицо и говорил что-то вроде: «Ну вот, ты же видишь, всё хорошо, ничего страшного не случилось, поругал тебя Борисыч, и всё…» Он считал, что предательство — не страшно. Или считал, что вовсе не предавал…
С Олегом попрощаться не вышло, хотя я специально бегала в село. Оказалось, он уехал к родственникам, в небольшое село у Джанкоя и его жена Наташа явно была рада, что я огорчилась. Дома я написала Олегу письмо и попросила Машку передать письмо ему лично в руки.
Хуже всего было, что мне ужасно хотелось есть. Но пойти на кухню и взять что-нибудь, или пообедать со всеми, я так и не смогла. Стоило только вспомнить, как Костик говорил, будто он кормил нас, — сразу перехватывало горло и становилось ясно, что ни кусочка проглотить не могу.
Верка и Арсен по очереди уговаривали меня. Верка говорила, ведь после того, что нам сделали Костик и Владимир Борисыч, они обязаны вообще до пенсии кормить нас и поить. Арсен заявил, что надо считать, будто мы получаем зарплату за нашу работу. Пусть не деньгами, а едой и одеждой. И, значит, то что я съем, честно заработано мною.
Вроде они были правы, но я всё равно не могла есть корм из рук человека, который предал меня. И сначала объела два шиповниковых куста за конюшней, а потом набрала косточек под большим абрикосовым деревом, разбила их и подобрала все ядрышки. Съела, а потом испугалась — говорят, в них синильная кислота…
Вечером появилась Машка, пропадавшая где-то целый день, сразу поняла меня и сказала, что придумает что-нибудь. Придумкой оказался батон и пакет кефира. Я хотела отказаться, ведь после абрикосовых горьковатых орешков есть уже не так хотелось, но Машка сказала, что хлеб и кефирчик вовсе не на её деньги куплены — то есть не на те деньги, что давали нам на карманные расходы Он и тётя Оля.
— Я выцепила Мокруху и сказала ему, что ты, мол, мне должен, конечно, но я добрая, я с тебя не шоколадку за три восемьдесят возьму, а просто трояк. Очень деньги нужны.
— А ты же сказала, что прощаешь проспоренное!
— Сказала, но он и сам не считал, что я ему простила. Проиграл — плати! Закон…
Хотя и казалось мне, что я уже не голодная, но батон съелся очень быстро, даже не получилось оставить кусочек на утро. Хорошо что вовремя подумала об этом и не выпила весь кефир… И как только я наелась, сразу же вспомнила о том, что надо было непременно сказать Машке.
Очень трудно было говорить такое, даже трудней, чем рассказывать о подслушанном разговоре тренера и Костика, потому что там речь шла о нас, а тут — об одном из НАШИХ коней…
Машка долго молчала, а я в это время думала, простит она мне то, что я скрывала правду и врала о прахе, развеянном на горе, или не простит. И что делать, если не простит, как тогда поправить дело, хотя вряд ли это будет поправимо.
Читать дальше