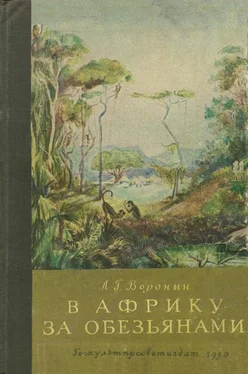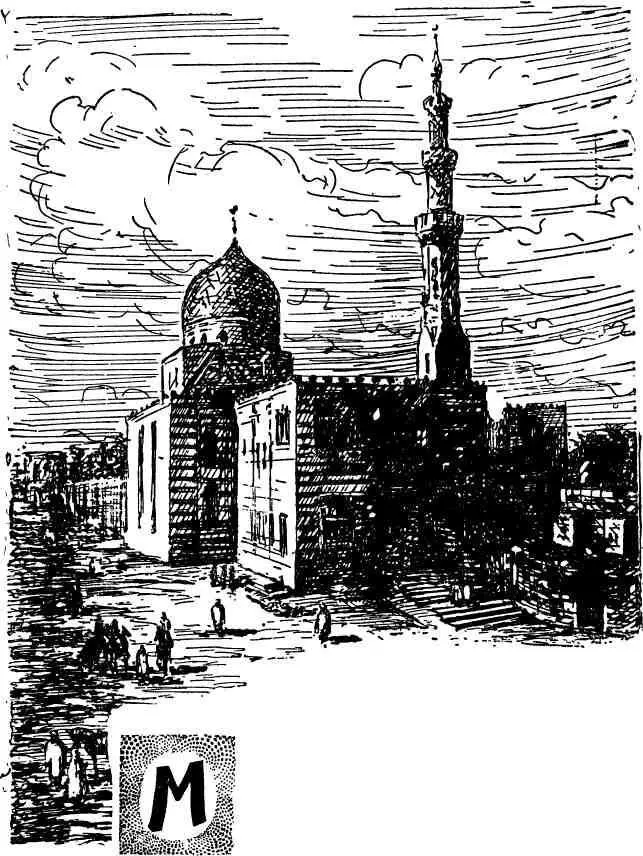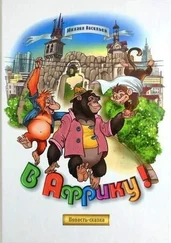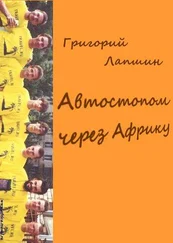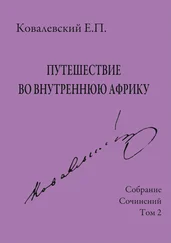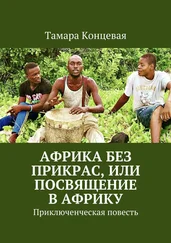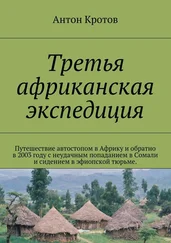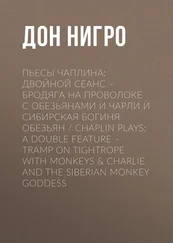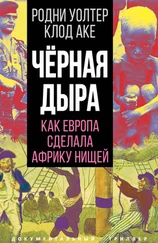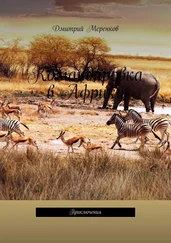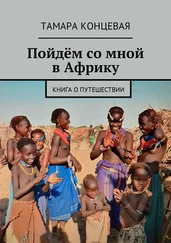В тридцати километрах от Тегерана ведутся раскопки. Мой шофер рассказывал, что когда-то там был большой город, в котором жила богатая царица, хранившая в подземельях огромное количество драгоценностей. Но произошло наводнение, город был залит водою. Теперь там пытаются найти эти утраченные богатства. Все это, очевидно, легенда, но, повидимому, город когда-то существовал, и на его месте ведутся обычные археологические раскопки, результаты которых пополняют небогатый Тегеранский археологический музей.
Возвращаясь из поездки в Дербент, я увидел на одной из центральных улиц Тегерана огромное недостроенное здание. Это единственный городской театр, который так и остался неоконченным. Кстати, драматического театра в Тегеране нет, есть лишь несколько любительских кружков. Кинотеатров около двадцати, в них демонстрируются пошлые голливудовские фильмы. Довелось мне побывать у главного почтамта. На тротуаре возле него постоянно сидит десятка три людей, перед каждым из них на маленьких столиках — ручка, стопка бумаги, почтовые марки и чернильница. Это — писцы в ожидании клиентов, желающих написать письмо, прошение или составить договор. Профессия писца очень распространена в Иране, потому что основная масса трудящегося населения неграмотна.
Моя экскурсия по городу и его окрестностям совпала с мусульманским выходным днем — пятницей. На улицах было много гуляющей публики.
Поздно вечером я вернулся в гостиницу. В коридоре второго этажа, возле окна, выходящего в переулок, я увидел группу кельнеров; они смотрели в окно, переговаривались и смеялись. Что же их развлекало? Оказалось, в здании на другой стороне переулка, в большом зале, некий джентльмен в белой манишке и черном фраке, с указкой в руке показывал при помощи эпидиаскопа картины религиозного содержания. Зрителями были пожилые мужчины и женщины с постными физиономиями. Сей джентльмен — проповедник американской евангелической церкви. Очевидно, он также принадлежит к штату англо-американских «благодетелей» иранского народа.
Дневные впечатления и мысли о предстоящем перелете в Каир долго мешали мне заснуть. Наконец, мне это удалось, но я часто просыпался то от крика петухов, ожидавших своей горькой участи у дверей ресторана, то от визга дерущихся собак, карауливших у тех же дверей отбросы из кухни.
Рано утром, так и не выспавшись, я выехал на аэродром, расположенный в десяти километрах от города. Самолет с опозданием на полчаса поднялся в воздух. Я уселся возле окна поудобнее. Итак, снова в путь.
МНЕ предстояло пролететь над тремя странами Ближнего Востока — Ираком, Сирией и Ливаном. Конечно, мне хотелось бы посмотреть хотя бы одним глазком на главные города этих близких по своей судьбе государств, являющихся предметом англо-американской экспансии, ареной национально-освободительной борьбы трудящихся против колонизаторов, заповедником мечтаний местных националистов-феодалов о «Великой Сирии» под покровительством империалистов, обителью восточной роскоши и ужасающей нищеты. Но мой маршрут не предусматривал длительных остановок в этих государствах.
Самолет поднимался все выше и выше, стрелка альтиметра показывала высоту от трех до четырех километров. Земли не было видно. Под нами тянулись сплошные волнообразные горы облаков, озаряемые ярким солнцем. Стекла окон покрылись тонкой пленкой льда. Стало холодно, пассажиры укутывались в легкие одеяла, выданные прислугой самолета.
Через три с половиной часа мы остановились в Багдаде на двадцать пять минут. Пассажиров пригласили зайти в зал ожиданий. Там оказался буфет, киоск с газетами и журналами, продавались серебряные безделушки местного производства. Мы прохаживались по залу. Наконец, один из членов экипажа нашего самолета, потрясая пачкой паспортов, которые он носил на проверку портовому начальству, громко пригласил снова занять свои места. Мы опять поднялись в воздух. Самолет быстро набрал высоту. Я всматривался в проплывающий под нами Багдад. Отчетливо были видны извилистые и кривые переулки окраин с лачугами и центральные площади и улицы с каменными домами.
Читать дальше