В Забайкалье Черкасов проработал шестнадцать лет, изъездив на конях и исходив пешком буквально всю Даурию. В конце 1871 года он переезжает на Алтай, где становится сначала управляющим Сузунеким заводом, а позднее выходит на пенсию и поселяется в Барнауле, где продолжает литературную работу. Он пишет очерки о сибирских и алтайских странствиях, трудится над новым изданием своих «Записок». Благодаря содействию Альфреда Брема, с которым А. А. Черкасов встречался и охотился на Алтае (об этом он рассказал в интересном и ни разу не переиздававшемся в наше время очерке «Брем», напечатанном в 1887 году в журнале «Природа и охота»), «Записки охотника Восточной Сибири» переиздаются в Европе — дважды на французском языке и один раз на немецком.
В 1884 году, в год пятидесятилетия автора, А. С Суворин в Петербурге выпускает в свет второе издание «Записок» тиражом две тысячи экземпляров. Книга дополнена главой о глухаре и украшена гравюрами об охоте. В предисловии А. А. Черкасов с горечью говорит об оскудении былого изобилия дичи в Сибири: «И теперь уже далеко не то, что было: непролазная угрюмая тайга день ото дня делается все более доступной и не так страшной, а нескончаемые дебри редеют чуть ли не с каждым часом, и несчастные звери заметно убывают в количестве или кочуют в еще не тронутые тайники сибирских трущоб».
Снова на книгу появляются благожелательные отклики (например в журнале «Дело», где сказано, что книга «дает больше, чем обещает»), снова рецензенты отмечают живость слога и правдивость автора.
В Барнауле А. А. Черкасов пользовался уважением сограждан и был избран городским головой. Через несколько лет, в 1890 году, он переехал в Екатеринбург ради того, чтобы дать хорошее образование своим детям, которых у него было семеро. Вот что пишет об этом периоде его жизни Е. Д. Петряев.
«Черкасовы купили дом на Вознесенской улице. Усадьба примыкала к саду знаменитого Харитоновского дворца, известного по роману Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы». Возникло много новых знакомств, начались визиты инженеров, педагогов, сотрудников «Екатеринбургской недели». В этой газете вскоре появилась статья Черкасова «Меры к развитию платинопромышленности на Урале» (1891 г., № 13). Среди новых знакомых был и Д. Н. Мамин-Сибиряк. Черкасов вплотную занялся литературной работой, собиранием библиотеки. Особенно его интересовали сведения исторического и философского характера, книги об охоте и охотниках, такие, как «Записки сибирского немврода» И. Г. Шведова, «Охота и охотники» Псковича (П. П. Куликова).
Здесь, на Урале, он старался пополнять зоологическую коллекцию Уральского общества любителей естествознания, дарил библиотеке общества свои книги…
Сибирская жизнь приучила его к простоте в обращении с людьми. Он уважал чужое мнение, иронически относился к спеси толстосумов и высокомерию дворян-чиновников (хотя и сам «ходил в генералах» — был статским советником). Он отказался от выборов в городскую думу. Но вскоре его против желания все же выбрали как домовладельца. Пришлось смириться. Но на этом дело не закончилось. На заседании думы 20 октября 1894 года зачитали бумагу о том, что Черкасов назначен городским головой. «Смею вас уверить, — сказал он членам думы, — что я не искал, не добивался этого; все это для меня было положительной неожиданностью. Конечно, я не могу не ценить ту честь, то доверие, которое выпало на мою долю от губернатора. Я долго боролся с собою, прежде чем решиться принять это назначение. Я надеюсь, что вы не будете смотреть на меня неприязненно, как на человека не выбранного, а назначенного правительственной властью, и братски примите меня в свою среду. Что касается меня, то я употреблю всю свою энергию на дело служения городским интересам. Думаю, что вы не откажетесь помочь мне» — так изложила речь «Екатеринбургская неделя».
Сразу оживились завистники и недоброжелатели, которых подбивали местные толстосумы. Уже через два месяца Черкасов сказал, что намерен уходить. Пошатнулось и здоровье.
Утром 24 января 1895 года он получил по почте анонимный пасквиль, который грязнил честь его и семьи. К письму добавлялась вырезка — оскорбительная карикатура из какого-то столичного издания. Такого жестокого удара Черкасов не перенес и умер от паралича сердца прямо за письменным столом. Хоронил его весь Екатеринбург, до Тихвинского монастырского кладбища шла огромная толпа. Могила была недалеко от стен теперешнего областного краеведческого музея, но затерялась. Рассеялся личный архив, не сохранилась и библиотека, так как Евдокия Ивановна вскоре тоже умерла (в возрасте 54 лет).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
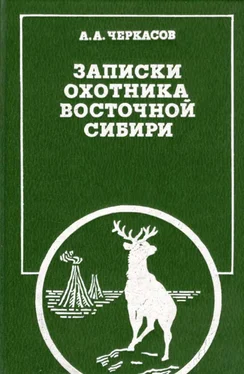

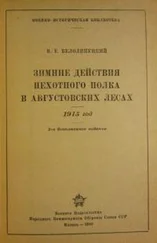
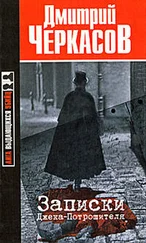


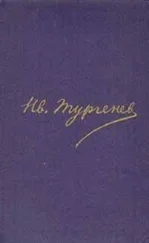
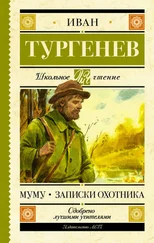
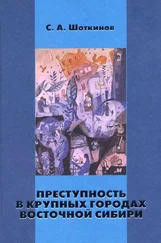
![Александр Черкасов - На Алтае [Записки городского головы]](/books/421610/aleksandr-cherkasov-na-altae-zapiski-gorodskogo-go-thumb.webp)
