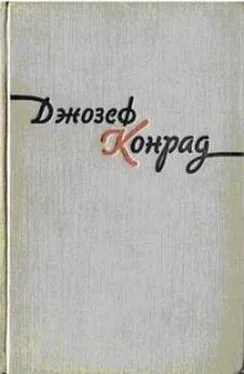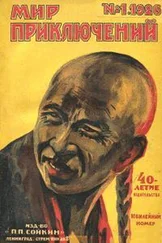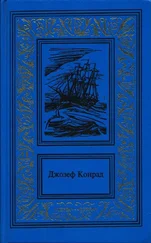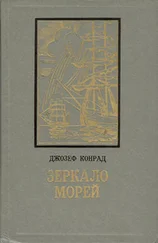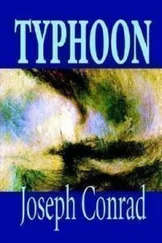Миссис Герман, приветливая, тучная домашняя хозяйка, одевалась в мешковатые синие платья в белую крапинку. Раза два я случайно застал ее у изящного маленького корыта, когда она энергично стирала белые воротнички, детские носочки и летние галстуки Германа; она краснела в девическом смущении и, подняв мокрые руки, издали приветствовала меня, дружески кивая головой. Рукава она закатывала до локтя, золотое обручальное кольцо блестело в мыльной пене. У нее был приятный голос, чистый лоб, гладкие, очень белокурые волосы и добрые глаза. Эта простодушная матрона была в меру разговорчива, а когда улыбалась, на ее полных свежих щеках появлялись девические ямочки. У племянницы же Германа, сироты и особы очень молчаливой, я никогда не видел и тени улыбки. Впрочем, это объяснялось не угрюмым характером, а сдержанной серьезностью, свойственной юности.
Как сообщил мне однажды Герман, последние три года они возили ее с собой, чтобы она помогала присматривать за детьми и составляла компанию миссис Герман. Это было крайне необходимо, пока дети маленькие, — прибавил он раздраженным тоном. Как я уже сказал, — проезжая как-то в шлюпке, я видел в окне каюты гладко причесанную и руку над горшками с фуксией и резедой: это была она. Но когда я впервые увидел ее во весь рост, я был ошеломлен ее пропорциями. Благодаря им она запечатлелась в моей памяти так же, как запомнилась бы мне какая-нибудь другая женщина, благодаря своей изумительной красоте, уму или доброте.
Формы и размер — вот что в ней бросалось в глаза. Очаровывало, так сказать, ее физическое естество. Быть может, она была исключительно остроумна, добра и умна, — этого я не знаю, и это не имеет значения. Знаю только, что она была великолепно сложена. Сложена — единственно подходящее слово. Она была сложена — сооружена, пожалуй, — с королевской расточительностью. Вас поражала такая безрассудная трата материала на одну девушку. Она была молода — и, однако, производила впечатление вполне созревшей особы, словно принадлежала к роду бессмертных. Быть может, она была грузной, но это не имело значения и лишь усиливало впечатление прочности и устойчивости. Ей было всего девятнадцать лет. Но какие плечи! Какие округлые руки! Когда она тремя длинными шагами пересекла палубу, устремляясь к упавшему Николасу, смутно обрисовывались ее мощные ноги. Это поистине неописуемо! Она казалась славной, спокойной девушкой, бдительно следящей за маленькой Леной, кувыркающимся Густавом, за носиком Карла, — добросовестной и работящей девушкой. Но какие великолепные у нее были волосы! Пышные, длинные, густые, рыжеватого цвета. Они сверкали, как драгоценный металл. Она туго заплетала их в одну косу, струящуюся вдоль спины, и коса спускалась ниже талии. Вас изумляла ее массивность. Честное слово, эта коса напоминала дубинку! Лицо у нее было широкое, миловидное и спокойное. Цвет лица был хороший, а голубые глаза такие бледные, что казалось — она глядела на мир белыми, невозмутимыми глазами статуи. Ее не назовешь хорошенькой. Это было нечто более впечатляющее. Простота ее наряда, крупные формы, внушительный рост и удивительная жизненная сила, казалось, излучавшаяся ею, как аромат исходит из цветка, — придавали ее красоте что-то первородно-земное и олимпийское. Когда она, подняв высоко над головой обе руки, тянулась к веревке с развешанным бельем, вас охватывало чувство, напоминающее благоговение язычника. На мешковатых бумажных платьях миссис Герман красовались у подола и у ворота какие-то примитивные рюши, но на ситцевых платьях этой девушки не было ни единой оборочки — ничего, кроме нескольких прямых складок на юбке, спускавшейся до полу, и когда она стояла неподвижно, эта юбка походила на строгое одеяние статуи. Сидела она или стояла, она склонна была оставаться неподвижной. Однако я не хочу этим сказать, что в ней была мертвенность статуи, — нет, она была слишком полна жизни. Но она могла бы позировать для аллегорической фигуры Земли. Я говорю не о нашей изношенной земле, а о Земле — юной, девственной планете, не смущенной видениями грядущих чудовищных форм жизни и смерти и жесткими битвами, вызванными голодом или идеями.
Сам достойный Герман был не очень занимателен, хотя по-английски говорил сносно. Миссис Герман — она всегда обращалась ко мне хоть разок дружеским сердечным тоном — я не мог понять (полагаю, она говорила на platt-deutsch [2] Нижне-немецкое наречие.
). Что же касается их племянницы, то, как ни приятно было на нее смотреть (почему то она вызывала радужные надежды на будущее человечества), — она была особа скромная и молчаливая и большей частью занималась шитьем; лишь изредка я замечал, как она, забывая о своей работе, погружалась в девические размышления. ее тетка сидела напротив нее, также с шитьем, поставив ноги на деревянную скамеечку. Герман и я выносили из каюты два стула, ставили их по другую сторону палубы, усаживались и курили, мирно обмениваясь изредка несколькими словами. Я приходил к ним почти каждый вечер. Германа я всегда заставал с засученными рукавами. Вернувшись с берега на борт своего судна, он начинал с того, что снимал пиджак; затем надевал на голову вышитую круглую шапку с кисточкой и заменял сапоги матерчатыми туфлями. После этого он курил у двери рубки, с видом добродетельного гражданина, поглядывая на своих детей, пока их не ловили одного за другим, чтобы уложить спать в различных каютах. Наконец мы пили пиво в кают-компании, где стоял деревянный стол на козлах и черные стулья с прямыми спинками, что придавало каюте вид кухни на ферме. Море и все морские дела, казалось, были очень далеки от этой гостеприимной и примерной семьи.
Читать дальше