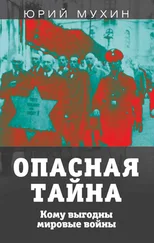Особое внимание у местных историков вызывает оборона Ковенской крепости, подаваемая (не без оснований) как центральное событие всех боевых действий на территории Литвы в годы Великой войны. В связи с этим исследовательский интерес вызывает у них и история создания Ковенской крепости, сами фортификационные сооружения, комплектование гарнизона. Также имеются работы по изучению подготовки офицерских кадров в военно-учебных заведениях на территории Литвы, их биографий и боевого пути в годы Первой мировой войны. [28] См., например: Костров В. И. Из истории военно-учебных заведений Вильны. Выпускники Виленского пехотного юнкерского училища – участники и герои Первой мировой войны // Предпосылки Первой мировой войны. Сборник докладов на международной конференции, 9-11 июня 2013 г. Вильнюс, 2013. С. 208–211.
Как известно, захват Ковенской крепости после упорных боев в августе 1915 г. позволил кайзеровской армии оккупировать значительные территории Российской империи, включая почти всю Литву (например, Виленский край и Вильно были заняты немцами уже в сентябре 1915 г.).
В 2012 г. Институт военного наследия опубликовал на русском языке дополненный вариант книги-альбома каунасского историка и музееведа А. Поцюнаса, посвященного кропотливой реконструкции боев 1915 г. вокруг Ковенской крепости. [29] Поцюнас А . Ад войны: У Ковенской крепости. 1915 год. Историческая реконструкция событий. Вильнюс: Институт военного наследия, 2012.
На сегодняшний день это, пожалуй, наиболее полное и богато иллюстрированное исследование по данной тематике, насыщенное фактическим материалом и оценками конкретных боевых действий сторон, впечатлениями местных жителей, отложившимися в социальной памяти литовского народа. В качестве примера в книге приводятся слова одного жителя города Ковно: « Ужасная и сногсшибательная картина! На горизонте ночи – горы, леса, тучи, земля и небо – все тяжело дышит в облаках огня под аккомпанемент прерывающего все это грохота. Окна сыпятся беспрерывно. Треск пулеметов и ружей сливается в один шум, как будто это буянит громадный вихрь. Залпы пушек каждую минуту встряхивают поверхность земли и небо, свист пролетающих снарядов кажется триумфальным полетом каких-то птиц ада» . [30] Там же. С. 114.
При этом, в отличие от иных историков и публицистов, А. Поцюнас в своих критических замечаниях не переходит грань, за которой находится русофобское и антироссийское мифотворчество.
Литовские историки сходятся во мнении, что военные действия привели к разрушению хозяйственной и общественной жизни Литвы, однако отмечают, что длительная немецкая оккупация породила в литовском общественном мнении представление о том, что с Берлином будет легче договориться о «восстановлении» государственности, чем с Петроградом, где после Февральского переворота среди прочих «свобод» не провозгласили «свободу сепаратизма».
При этом немцы, не давая никаких авансов создания государственности на оккупированных территориях, разрешили литовцам 18–23 сентября 1917 г. провести в Вильнюсе «Литовскую конференцию». На ней был избран «Совет Литовского края», впоследствии переименованный в «Литовскую Тарибу» (председатель – Антанас Сметона, будущий авторитарный «вождь» страны). [31] Lietuvos istorija. Ilustruota enciklopedija. Vilnius, 2012. P. 244.
Хотя в литовской политической мифологии «Литовской Тарибе» отводится ключевая роль в формировании («восстановлении») государственной самостоятельности Литвы, некоторые литовские историки все же упоминают о том, что этот орган «с довольно неопределенными полномочиями <���…> как якобы представительный орган Литвы практически никаких соответствующих функций не выполнял, поскольку в условиях военной оккупации существование подлинно представительного органа немыслимо». [32] Петраускас З. Принцип самоопределения народов в контексте восстановления государственности Литвы после Первой мировой войны // Россия и Балтия: эпоха перемен (1914–1924). М.: ИВИ РАН, 2002. С. 187.
Политическим приговором выглядит оценка доктора истории З. Петраускаса: « В своей политике в Литве и непосредственно во взаимоотношениях с Литовским Советом германские власти считали его совещательно-информационным органом, а оккупационные власти – чуть ли не звеном своего аппарата» . [33] Там же. С. 187–188.
В литовской историографии обретения государственности скрупулезно отражен польский фактор в лавировании литовских общественно-политических сил. Как пишет доктор истории Ч. Лауринавичюс, « еще до окончания Первой мировой войны стало ясно, что возрождающееся польское государство не ограничится этнической территорией, но при благоприятных условиях станет расширяться на восток, на земли бывшей Речи Посполитой» . Далее он отмечает: « Стремясь преградить путь Польше, литовские политики разрабатывали территориальные проекты, по которым Литва намеревалась включить в свой состав районы Гродненской губернии к югу от Немана. Таким образом, Гродненский край должен был сыграть роль естественного защитного барьера от польской экспансии» . [34] Лауринавичюс Ч . Политика литовского буржуазного правительства по вопросу восточной государственной границы // Россия и Балтия: эпоха перемен (1914–1924). М.: ИВИ РАН, 2002. С. 211.
При этом автор уклоняется давать собственную оценку попыткам литовцев защититься от поляков за счет белорусских территорий.
Читать дальше
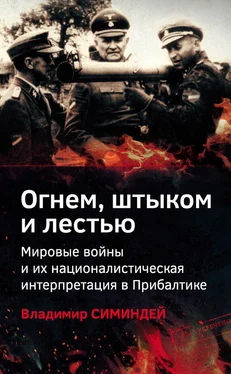


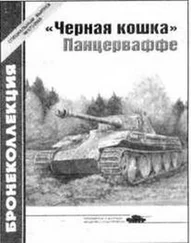
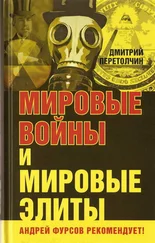
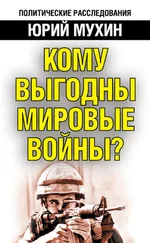
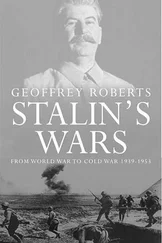

![Сергей Лавренов - Европа и Россия в огне Первой мировой войны [К 100-летию начала войны]](/books/411139/sergej-lavrenov-evropa-i-rossiya-v-ogne-pervoj-mirovoj-vojny-k-100-letiyu-nachala-vojny-thumb.webp)