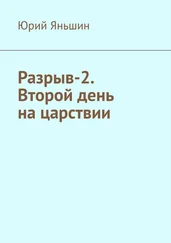Не миновать бы дяде с племянником беды, да спас хозяйский жеребчик, которого Вержбицкий холил и берег пуще глаза – не в угоду хозяину, а для таких вот случаев. Был уже полдень, и ничего вроде не изменилось в мире. Под ногами – все тот же лед, над головой – голубенькое небо и солнце, бессильное и бледное, как бумажный лист. Вокруг, насколько хватал глаз, редкими точками чернели люди, лошади, бурты осетровых тушек. Ничего не изменилось в мире, а жеребчик уже почуял беду и забил копытом, и заржал тревожно. Но работники были далеко и не слышали, рыба на крючьях сидела густо, тут только успевай поворачиваться… Иван очнулся, когда кто-то цепко ухватил его за плечо. Обернулся, увидел оскаленную морду коня, прыгнул в сани. «Молись, Ванька! – крикнул дядя, когда сани подлетели к нему. – Ты молодой, безгрешный… Авось!» Иван молчал, потрясенный. Не жалкий вскрик дяди, не серое его лицо, стянутое страхом, потрясли Ивана, и не то, что они попали в относ – в гибель ему по молодости лет не верилось, – а то, что конь мог уйти один, и не ушел без людей! И эта запоздалая мысль пронзила его счастьем, видел он в этом какой-то знак для себя, для жизни своей, но какой и что таилось в нем, он не знал и думать об этом было некогда. Была безумная скачка по краю смолисто-черного развода, то расширяющегося, то сужающегося, – и наконец конь прыгнул. Задние ноги его не достигли ледяной кромки, передними и брюхом он пал на нее, завалился на бок и стал кричать. Иван не помнил, как очутился на льду, – наверное, его вышвырнуло из саней силой прерванного бега. Лежа, он схватил узду, потянул. Какое-то мгновение голова коня и голова Ивана были почти рядом, и парень видел, как из распоротого ужасом малинового зрака лошади текла слеза… А дядя, странно прихохатывая, бил ножом по гужам, по чересседельнику, высвобождая коня. Оглобли, как руки, разошлись в стороны, Иван вложил в рывок всю силу, конь тоже рванулся, встал на лед, всхрапывая.
– Все… – сказал Вержбицкий, когда они вытянули к себе сани. – Ванька, а? Это тебе не графа читать… Видал? Сучья жизнь, паскуда… Ни снастей, ни улова.
Таким он и запомнился Ивану – маленький, в ледяной одежде, с дымящейся, патлатой головой. И тогда Иван впервые укорил великого учителя, чья мудрость была бессильна под этим небом, в этой ледяной пустыне, в деревнях и городах, где жизнь одних была как светлый луч, а жизнь других глуха, беспросветна, и эту несправедливость, казалось ему, уже никогда и никому не перебороть. И пусто стало на душе Ивана, будто вынули из нее смысл, которым она жила, а новый не дали.
В августе того же года уходил он на царскую войну. К большевику Семину им так и не удалось притулиться, зоркое полицейское око углядело его и удалило из Каралата. Жизнь теперь не светила Ивану ничем, он в своем сознании отъединил ее от себя, как вещь, и не знал, что с нею делать. На войну – так на войну… Пьяненький дядя припадал к его плечу, орал грозные слова про германца, чья кость жидка наспроть русской… Плач висел над берегом и над приткнувшейся к нему кургузой баржой для рекрутов. Тут же, на берегу, отец Анатолий служил молебен, покрывая могучей октавой многоголосую людскую скорбь. В сопровождении причта он плыл в толпе, и люди на его пути преклоняли колени, ловили губами полы парчовой рясы, целовали, крестились вслед. Иные, обессилев, подолгу лежали в пыли. Солнце жгло немилосердно, жир грязными струйками стекал с насаленных волос баб, и лица их, обмякшие от горя и самогона, были страшны. Ладан густыми пластами лежал над толпой, и запах его был древен – древнее бога, которому его воскуряли. С иконы отчужденно и нежно взирала на расхристанных каралатцев Матерь Божия Приснодева Мария, а хор, то ликуя, то скорбя, выпевал исступленные слова, которым тысячи лет. И случилось вдруг что-то с душой Ивана, будто выросли у нее крылья и полетела она далеко-далеко… Сместилось время, смялось оно в комок, прошлое стало настоящим, лишь вдаль страшилось взглянуть прозревшее око. Видел себя Иван не на каралатском берегу, а в дальнем – оком не достичь! – княжеском ополчении. И так же шли мимо монахи, и так же хор возносил в небо чистую молитву-слезу, синеглазая Дева глядела на людей и не видела их, объятая тревогой за младенца. И забыл Иван свою нищую жизнь, простил господину батоги и голод, и нет у него обид, нет злобы и страха раба – есть чисто поле, а в поле ворог… Одно лишь помнит Иван: он и господин его – русские. Пусть господин на коне и в броне, пусть холоп пеш и открыт удару меча, пусть неравным счастьем одарила их при рождении родная земля, но то была их родная земля! И оба падут за нее в чистом поле, и трава пронзит по весне их тела, и смешаются они в прах, прибавив родной земле одну горсть. Твоя от твоих, плоть от плоти, кровь от крови – восстань же, душа, и умри честно за веру, царя и отечество… На каралатском берегу, в вое баб, в пьяных криках мужиков, в горе народа, душа Ивана Елдышева вновь обретала смысл жизни, короткий и точный, как удар штыка.
Читать дальше