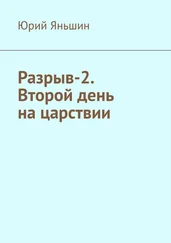Иван встал перед Васькиным штыком, уперся в него грудью, и так они стояли, покачиваясь, сминая в себе гнев. Подбежали трое или четверо, и один из них, молча, в боевом выпаде, взял бы Ивана на штык, но Васька отбил удар. Грохнула Васькина винтовка, и ушла в небо пуля, за которую было заплачено пять рублей золотом своему же армейскому интенданту. Измена, измена… Эх, и горька же ты, неутоленная месть! От неожиданности выстрела и слабости тела упал тот, кто хотел заколоть Ивана, но снова тянулся к выроненной винтовке. Чья-то босая нога наступила на ствол, чей-то голос прорыдал:
– Что же делать, товарищ?
– Больных и раненых, – сказал Иван, – по двое в каждый дом. Ходячим быть при них. Ждать меня.
– Не пустят, товарищ… Добром не пустят.
Иван глянул туда, откуда пришел, и заледенел сердцем. Сказал:
– К женскому полу оружия не применять.
С тем же холодом под сердцем он ждал выстрелов, пока вместе с Васькой сгружал с арбы своих эскадронцев и вносил их в дома к испуганным хозяевам. Но обошлось… Васька Талгаев притянул его к себе за отворот шинели, покачнулся, сказал: «Ваня…» – и больше ничего не смог сказать внятно, сполз на пол и понес околесицу, полыхая жаром. Может быть, поэтому и сорвался Иван в кабинете военного инструктора губкома партии товарища Непочатых, а еще потому, что на столе у товарища Непочатых дымился стакан чая, лежал ломоть хлеба с кусочком сахара на нем. Тепло, чай, caxapoк… Грохнул Иван кулаком по столу, по каким-то бумагам, и на верхний лист от удара сыпанули из рукава шинели мелкие рыжие вши. Товарищ Непочатых, совершенно не слушая Ивановых гневных слов, скоренько скомкал лист, положил его в пепельницу и поджег. А затем начал крутить телефонную ручку, поднимая по тревоге какой-то санитарный отряд, изредка прикрывая ладонью трубку и спрашивая Ивана: кто, где, сколько? Иван отвечал, но отвечал как в тумане, погружаясь в него все глубже и глубже. Усталый мозг лишь временами отмечал: вот они с товарищем Непочатых едут в пролетке по ледяной Волге на Форпост, вот санитары выносят Ваську Талгаева на носилках из дома, и его, Ивана, тоже кладут почему-то рядом с ним на подводу, вот его моют в ванне, а вот он просыпается и ест, и снова просыпается и ест… И наконец он проснулся и спросил у медсестры, а где же товарищ Непочатых, и с этого мгновения, поймав ее удивленный, непонимающий взгляд, Иван снова вошел в обыденное время, которое потекло так, как и положено ему течь от века.
Где подводой, а где пешком добрался Иван до родного Каралата. Во внутреннем кармане шинели лежали у него два документа. Первый – отпуск на три дня, второй – приказ начальника губмилиции Багаева о назначении его, Ивана Елдышева, начальником Каралатской волостной милиции. А еще был устный приказ того же Багаева: сразу же после трехдневного отпуска Ивану надлежало явиться в Астрахань для участия в секретной операции. А в какой именно – этого Багаев ему не сказал.
Что ж, явимся… Явимся!
В родном Каралате Иван Елдышев не был почти пять лет.
До землянки своего родного дяди по матери Иван дотопал поздним вечером. Дядю тоже звали Иваном, а фамилия у него была Вержбицкий, польская фамилия. Когда-то в Каралат был сослан на вечное поселение польский шляхтич, и растворил он свою голубую кровь в красной мужичьей… Дядька сидел за столом, раздирая руками вяленого леща. Хлеба на столе Иван не приметил. Сотни раз мечтал он, как вернется домой, как встретит дядю, – и вот встретил его, встретил не так, как мечталось, не было праздника в этой встрече, а сердце все равно сжалось, повлажнели глаза. Дома он, дома, и дядька жив, только усох маленько.
– Чего стоишь, служивый? – спросил Вержбицкий. – Раздевайся и садись к столу. Да поздоровкайся, коли добрый человек. Аль немой?
Иван прислонил винтовку к стене, снял шинель, стал стягивать сапоги. На столе тоненько светил каганец. Иван разувался в полутьме, присев на высокий порог.
– Ваня, – растерянно сказал дядя, вглядевшись. – Это ты, што ли? Ты ж помер, Ваня! Еще при царе…
– То при царе, – сказал Иван, – а теперь иная стать. Всех, кто при царе отдал богу душу, революционная власть назад отзывает. Старый ты хрен, родню не признаешь…
– Ванек, милый ты мой! – кинулся к нему дядя. Не умея ласкать, ворошил волосы, лапал лицо. – Живой, мать твою! Вот радость так радость… Ну, держись теперя!
– А кому надо – держаться-то?
– Это я тебе растолкую. У нас тут, племяш, такие дела! Я, знамо дело, в большаки записался и в коммуну взошел. Осенью отпёр туда всю снасть, бударку сдал. Я без тебя малость разжился было…
Читать дальше