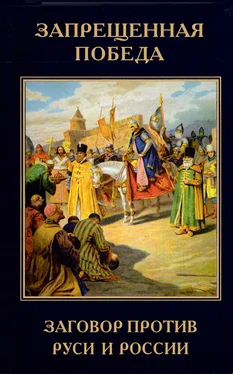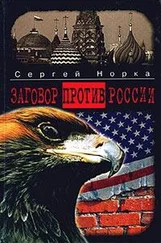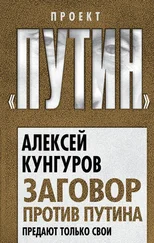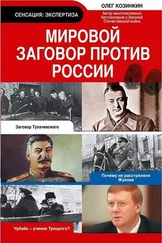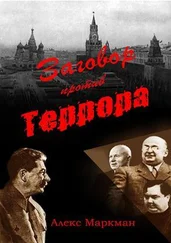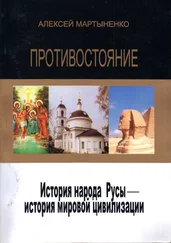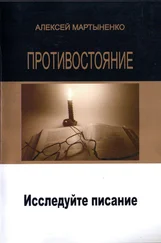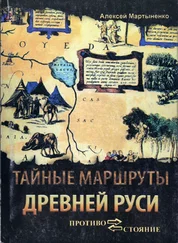В Литве предатель был встречен прекрасно и получил во владение от польского короля город Ковель с замком, Кревскую старостию, 10 сел, 4 тысячи десятин земли в Литве и 28 сел на Волыни (там же, с. 258). Все это надо было отрабатывать и “благородный” рыцарь сел за сочинение “обличительных” писем» [2] (с. 50).
Все вышесказанное подтверждено документально:
«После того, как условия измены были оговорены, Радзивилл отправил Курбскому в г. Дерпт (Юрьев) заверенную грамоту с печатью и обещанием хорошего вознаграждения за измену. Более того, сохранилось письмо польского короля Сигизмунда II Августа, из которого явствует, что Курбский вступил в преступную переписку с поляками еще в 1562 году – за полтора года до побега, когда он пользовался полным доверием царя Иоанна и возглавлял сторожевой полк во время полоцкого похода» [3] (с. 84).
Однако войска Ивана Грозного штурмуют Полоцк. Поляки понимают, что защищаться они больше не в состоянии, а потому предлагают мир. И вновь это странное наше пацифистски настроенное боярство подготавливает очередную измену:
«В этом плане, видимо, нет принципиальной разницы между перемирием с Ливонским орденом в 1559 году, заключенным стараниями Алексея Адашева, и перемирием 1563 года, предоставленном Литве благодаря усилиям бояр и старицкого князя. Оба дипломатических акта являлись предательством русских государственных и национальных интересов. Поэтому их творцов должно и нужно считать изменниками и предателями Святорусского царства» [9] (с. 652).
Именно после этой измены Курбскому пришлось:
«…ехать в Юрьев на воеводскую службу, а не в Москву за наградами и почестями» [9] (с. 653).
Тут же вскрылась и очередная измена: эта законспирированная секта планировала сдать врагу Стародуб. На этот раз Иван IV, понимая, что изменников пора заканчивать увещевать, был с ними достаточно жесток:
«Началось следствие, которое вывело на родственный адашевский клан. В результате. казнены брат Алексея Федоровича Адашева окольничий Даниил Федорович Адашев с сыном Тархом, тесть Даниила костромич Петр Иванович Туров, также “шурья” Алексея Адашева – Алексей и Андрей Сатины. Жестокость наказания была, вероятно, обусловлена не только родственными связями казненных с Алексеем Адашевым, но и тем, что измены приобрели к середине 60-х годов XVI столетия катастрофический для Святорусского царства характер» [9] (с. 654–655).
Это прозрение, когда стало понятным, что нет никакого разгильдяйства, но лишь умышленные предательства своего Царя боярами, пришло после бегства Курбского:
«Царя потрясло бегство (как обнаружилось, заранее и долго планируемое) к Польскому королю князя Андрея Курбского – близкого его друга и одного из лучших военачальников Русии. Что оставалось делать Ивану Грозному? Либо продолжать миловать и прощать предателей, а значит, – погубить в конец великое государство, завещанное ему отцом и дедом, либо сделать смелый шаг и решиться на чрезвычайные меры. Грозный, как истинный государь, сознающий свою ответственность перед Богом и Православным Христианством, избрал второе» [9] (с. 824).
То есть крамолу следовало выжигать каленым железом. Потому как предупреждения уже не действовали и самый, казалось бы, верный и надежный друг, что вскрывало дознание, уже изначально являлся предателем. То же касается и всех иных членов Избранной Рады.
Но последней каплей, переполнившей просто удивительнейшее многолетнее терпение Ивана Грозного, явилось предательство именно им самим и поставленного, после смерти Макария, нового Митрополита Московского и всея Руси:
«На наш взгляд, Грозный особенно был потрясен поведением митрополита Афанасия, на верность которого рассчитывал. Да и как не рассчитывать на человека, которому много лет доверял как своему духовнику, которого долгие годы поддерживал и сделал, наконец, Митрополитом… Те, кто обязан был повиноваться царю, приходят к нему с недовольством и неодобрением его политики, а во главе фрондирующих бояр оказывается Митрополит, пользующийся расположением и доверием Государя. Тут было чему поразиться. И здесь он должен был с неприятным удивлением признать, что впервые за все его царствование на стороне оппозиции выступил Митрополит всея Руси. Оппозиция, таким образом, заметно усиливалась и приобретала новое качество наивысшей опасности. Иван Грозный окончательно понял, что без чрезвычайных мер ему не обойтись» [9] (с. 840).
Но понять происходящее – было слишком мало. Надо было что-то делать. Однако ж собравшиеся в ту пору в Москве враги, в отличие от Ивана IV, знали что делать. И действовали. О чем сообщают в своих мемуарах: А. Шлихтинг, И. Таубе и Э. Крузе. Вот как подытоживает имеющуюся информацию Фроянов:
Читать дальше