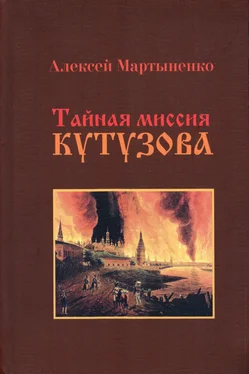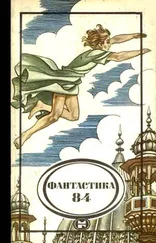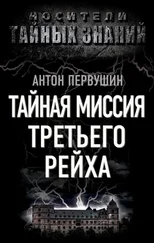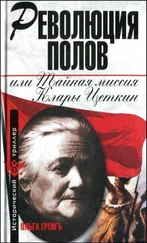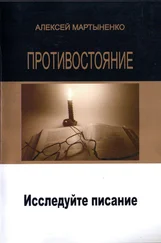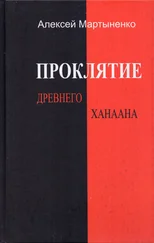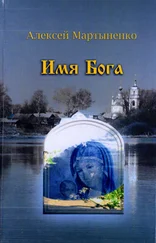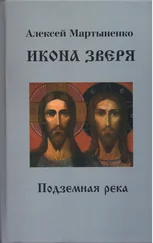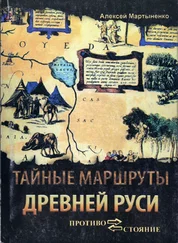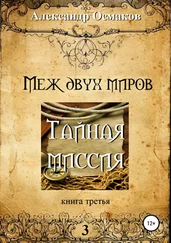Но и во времена своих «учеб» этот «вышедший из народа» Михайло, ставший научной знаменитостью лишь при большевиках, шарахался из одного учебного заведения в другое, как только мог:
«Академическая биография 1784 года сообщает, что Ломоносов в поисках науки побывал и в Киеве…» [140] (с. 120).
О чем, что и понятно, в телевизионных «шарадах» о нашем этом «крестьянском сыне» ни слова ни полслова. То же и во всех иных «исторических» на эту тему опусах.
Но не знания, что выясняется, были нужны нашему Михайле, но карьера. А потому:
«Отдав себе отчет в том, что Киевская Академия не отвечает его планам и надеждам, он поспешил в Москву, где мог скорее рассчитывать на изменение своей судьбы» [140] (с. 120).
Эти чисто карьеристского толка «изменения» и в дальнейшем всецело руководили поступками нашего Михайло – эдакого большевицкого Кулибина:
«В июле 1735 года он был зачислен в философский класс. Но наука Спасских школ ему прискучила. Он испытывал томительное и безпокойное раздумье. Неизвестно, куда бы он еще метнулся, если бы в конце 1735 года не пришло сенатское предписание выбрать из учеников Спасских школ двадцать человек… и отправить их в Петербург, в Академию наук» [140] (с. 120–121).
Ну, такой оборот – это совсем другое дело! Ведь ему все равно в какой области себя прославлять: в химии или ваянии картин, стихосложении или вентиляторо- и вертолетостроении. Главное, чтоб наиболее крутой в подъеме была именно карьера !
Но это не было случайностью. Ломоносов, для достижения своей цели:
«…пустил в ход все средства и обратился к покровительству Феофана, который, по преданию, ему в том “способствовал”» [140] (с. 121).
То есть теперь нами обнаруживается один из его тайных покровителей! И кто же это?
Так ведь самый еще при Петре погрязший в коррупции священник – Феофан Прокопович! И вот каким было вплотную с карьерой увязанное его вероисповедание:
«Феофан Прокопович учился сначала в Киевской академии, потом последовательно в иезуитских коллегиях во Львове, Люблине, Вильне и Познани. Его не раз обвиняли в безбожии, ереси, но ему покровительствуют сначала Петр I, затем Екатерина I, наконец, Бирон» [191] (с. 76).
С чего бы это вдруг такая при дворе известная фигура покровительствует якобы всем безвестному какому-то такому увальню Михайло – «крестьянскому сыну»?
Для этого стоит лишь более пристально приглядеться к той организации, к которой имел принадлежность как облагодетельствовавший его чудеснейшим образом Феофан Прокопович, так затем и сам этот «крестьянский сын»:
«“Властители дум” русского общества получили свои познания от масонской премудрости и сами были членами ордена вольных каменщиков . Под знаменем пятиконечной звезды прошли: Артамон Матвеев, князь В.В. Голицын, “птенцы гнезда Петрова”, Прокопович, Татищев, Кантемир, князь Щербатов, Сумароков, Херасков, Новиков, Радищев, Грибоедов, декабристы, Герцен, Бакунин, Нечаев, либералы, радикалы, социалисты, Ленин.
В течение двух столетий передовая интеллигенция шла под знаменем мятежа против божеских и человеческих установлений.
Она шла от рационализма к пантеизму и закончила атеизмом и построением Вавилонской башни» [225] (с. 127).
А вот уже конкретно о роли в деле построения этой башни самого Прокоповича:
«В.В. Назаревский в своей книге “Из истории Москвы” сообщает, что в зале Сухаревой башни (в Москве), по преданию, происходили тайные заседания какого-то “Нептунова общества”… там председательствовал Лефорт… Сам царь был первым надзирателем, а архиепископ Феофан Прокопович– оратором этого общества… в народе долго ходила молва, будто бы на башне хранилась черная книга, которую сторожили двенадцать духов и которая была заложена в стену и заколочена алтынными гвоздями (Марков Н.Е. Войны темных сил)» [225] (с. 83).
Вот кем был, как выясняется, Феофан Прокопович, хлопотавший за этого увальня: он был масоном-чернокнижником. Точно таким, которым стал впоследствии, побывав на стажировке у алхимика Вольфа, и сам его подопечный.
Но столь удивительнейшие чудеса, творящиеся с ведома слишком влиятельных в стране людей, на этом не заканчиваются. Когда потребовалось отослать за границу для обучения химии трех студентов академии, из огромного числа претендентов были избраны только трое:
«1. Густав Ульрих Рейзер, советника берг-коллегии сын, рожден в Москве и имеет от роду семнадцать лет.
2. Дмитрий Виноградов, попович из Суздаля, шестнадцати лет.
Читать дальше