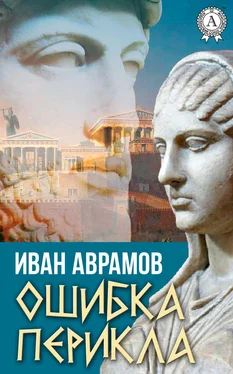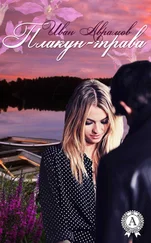— Да, но ты, Олимпиец, первым начал этот разговор и, признаюсь, очень заинтриговал меня. Разве я вместе с тобой не должна быть готова к испытаниям? И вообще — я не припомню, чтобы мы с тобой когда-нибудь праздно говорили о том, как красивы, например, эти бабочки и стрекозы, летающие вокруг нас, как чиста вода вон того ручья, в котором по ночам резвятся беззаботные нимфы, как удивителен рассвет, сотканный розовыми перстами Эос… Хотелось бы, конечно, беззаботно порассуждать об этих легких и приятных вещах, но разве они в голове у Перикла, а, значит, и у меня тоже? Итак, я слушаю тебя.
— Ты чересчур настойчива, Аспасия, — вздохнул Перикл. — Так хочется испортить впечатление от нашей чудесной, в кои-то веки, вылазки? Хорошо, давай поиграем в маленькую игру. Хотя она наверняка покажется жестокой и тебе, и мне. Итак, я… Я — обвинитель, а ты — обвиняемая. Я задаю каверзные вопросы, а ты защищаешься. А эти кусты и все, что окрест, символизируют афинский народ, который, столпившись на агоре, жадно внимает каждому слову нашего диалога. Итак, Аспасия, дочь Аксиоха из Милета, чужеземка, жена первого стратега Афин, ты обвиняешься в том, что сделала дом высокоуважаемого Перикла домом терпимости. Ты забыла первейшую заповедь: «Имя честной женщины должно быть заперто в стенах дома». Неслыханное дело: у тебя в гинекее мужчины роятся так, словно это не гинекей, а портовый кабачок. И не только мужчины, а и женщины легкого поведения, даже замужние афинянки, почтенные матери семейств…
Аспасия рывком вынула золотую цикаду [71] Пряжка для скалывания волос.
— волнистые волосы, мгновение помедлив, тут же расплескались, несколькими темными ручьями упали вниз, на плечи, закрыв изящную, тонкую, как у девочки, шею. Грудь, которая и по сей день не испытывала нужды в страфионе, [72] Широкая лента ткани, которой женщины в Древней Греции подвязывали себе груди — нечто весьма отдаленно напоминающее современный бюстгальтер.
высоко поднялась — Аспасия, явно заводясь, сделала резкий вдох.
— Это полуправда. Да, в моих покоях собирается цвет Афин — философы, поэты, ваятели, военачальники, но они приходят лишь затем, дабы вести ученые разговоры, в которых рождается истина. Да, их развлекают приглашаемые мной авлетриды, [73] Выражаясь современным языком, дамы полусвета, прекрасно владеющие музыкальными инструментами и искусством пения, танца. Авлетриды ценились гораздо выше, чем обыкновенные диктериады, но заметно уступали гетерам.
но с каких это пор сладостные звуки флейты, кифары, тригона, [74] Т р и г о н — многострунная арфа.
а также изумительная пластика танца стали противны духу эллинов?
— Суд принимает твои слова к сведению. Далее… — Перикл определенно замялся, раздумывая, сказать ли ему вслух то, что на языке, или нет. Однако Аспасия, строгая, напряженная, глазами дала понять — все как на духу, ты меня этим не унизишь и не оскорбишь. — Хорошо, Аспасия, ты, стало быть, отрицаешь, что во время пиров и симпозиев, столь часто устраиваемых в твоем доме, занимаешься сводничеством, развращаешь невинных девушек…
— Обо мне мелют много разного вздора, но даже те, кто сделал это занятие чуть ли не своей профессией, согласятся, видимо, что я далеко не самый глупый человек в Элладе, — прервала «подсудимая» «обвинителя». — Мне хорошо известно, что афинские законы карают за это смертью.
— А правда ли, что ты, будучи уже далеко не первой молодости и боясь потерять такого досточтимого и всенародно любимого супруга, как Перикл, приводишь ему для забав и утех как продажных девок, так и свободнорожденных женщин, даже тех, кто уже имеет мужей? Знаешь ли ты, что об этом толкуют на всех афинских улицах, у фонтанов с питьевой водой, в цирюльнях и торговых рядах?
— Пожалуй, об этом лучше спросить у самого Перикла, честность которого ведома всем без исключения афинянам.
— Браво! — не удержавшись, воскликнул Олимпиец, на мгновение сорвав с себя маску судьи. — Пусть только попробуют, уж я-то сумею ответить подобающим образом. Дорогая Аспасия, скажи, не устала ли ты от разыгрываемой нами комедии?
— Ах, Перикл, я просто думаю о том, что самую смешную комедию можно без особых усилий превратить в настоящую трагедию.
Ложбина, заросшая тамариском с его розово-фиолетовой рябью, давно уже осталась позади; желтый, с отливом в червонное золото, разлив дрока, земляничные деревья, крепкая тень от которых на какое-то время избавила их от тягостного зноя вовсю уже разгорающегося дня — тоже. Теперь путники преодолевали не очень-то крутой подъем на гору, одетую в роскошный зеленый пеплос, [75] Женское одеяние.
сотканный из яркой, чудесно пахнущей хвои пиний, вкраплений мирта и можжевельника. Чуткое ухо Перикла уловило журчание не такого уж далекого ручья, близ которого они и выберут себе место. Немножко отдохнув на мягкой рыжеватой подстилке из прошлогодней хвои, опять устремились вверх.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу