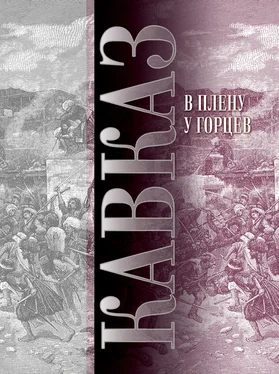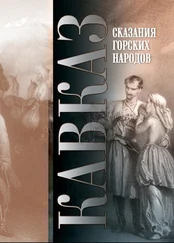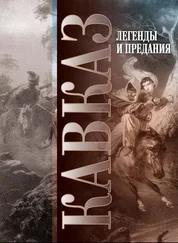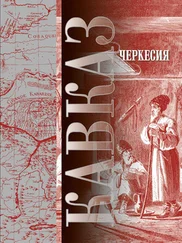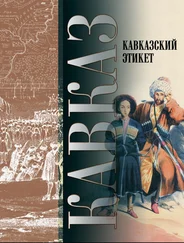1 ...6 7 8 10 11 12 ...39 С час ехали мы; природа все та же: не увидишь луча солнечного; все выси, да скалы, да горы, да леса дремучие.
– Скоро ли? – спросил я у своего спутника.
– Да вот, – отвечал чеченец, указывая плетью: – поднимемся на бугор, а оттуда недалеко.
Мы въехали на маленькую горку. Широкая и длинная поляна лежала перед нами; солнце садилось; князь приказал остановиться; мы слезли; начальнику поднесли медный таз и глиняный кувшинчик для омовения; лошадей спутали; мне приказали сесть; правоверные собрались прочесть молитву перед закатом. Впереди, на маленьком пестром коврике, сам князь; за ним, на разостланных бурках, мюриды его; каждый шепчет про себя слова намаза; один Газий звучным и громким голосом полупоет: «Бисмиль ля и эльхиндо». Лица, за минуту полные отваги и дерзости, сменились выражением какой-то важности и смирения; взоры опущены долу, руки сложены на пояснице; лучи солнца, пробившись сквозь ветви деревьев и далеко обливая поляну, играли на белых, чистых чалмах мюридов чудным розовым светом; дорогие насечки на ружьях, кинжалах и шашках словно горели; недалеко связанный русский; там кони, понурившие головы… Так торжественно тихо! Ни ветер не колыхнет, ни птица не взовьется; только звучный лепет молитвы да говор волны…
«Аттаге и ата» кончена, и вот мы опять на диньях . До ночлега оставалось версты три; место ровно, хоть шаром покати. Выхватив пистолеты и ружья, мюриды словно птицы понеслись по полю, сверкали, гремя выстрелами. Каждый хотел блеснуть перед новым начальником, и долго джигитовали бы барколлы (удальцы, бодрые, смелые), если бы не аул, который вдруг вышел из-за леса. Мгновенно все собрались вокруг князя. Проехав еще с полчаса, отрядец наш остановился в виду Доч-Морзей. Множество домов, аккуратно выбеленных, разбросанных без всякой симметрии по широкому полю. С южной и западной стороны Доч-Морзей опоясан густым и непроходимым бором; с восточной он примыкает к Аргуну; жители его – беглецы атагинские: после набега Ермолова на столицу Чечни, славную и богатую Атагу, все, что было истого мечиковского, бросилось в ущелье и образовало аулы самых буйных и смелых разбойников…
Князь, по обычаю истинного мухаммеданина, выжидал, чтоб кто-нибудь пригласил нас под кровлю. Вот летит знакомец мой, хитрый Чими.
– Салам алейкум!
– Алейкум салам, – ответили хором.
Пошли приветствия.
– А, а! Леон, хё вун окуз? Марша ла илла я дела! (А, а! Леон, ты здесь? Прошу Бога, чтоб здоровье шло к тебе!)
Я поблагодарил; мы тронулись. Все, что было живого и разумного в ауле, все встретило нас. Салам и приветствия градом летели со всех сторон. С этой-то свитой мы торжественно въехали во двор Эм-мирзы, отца Чими.
Как и везде, меня мгновенно окружили; десятки рук протянулись к полам сюртука, ощупывая сукно; фуражка ходила из рук в руки, возбуждая смех и брань. Как и везде, народ, удовлетворив первое любопытство, начал ругать христиан, русских и меня в особенности. Я попросил человека, приставленного ко мне, развязать мне руки (когда мы отправлялись, локти мои туго перетянуты были кожаным ремнем) и спрятать меня куда-нибудь от безотвязных. Мюрид отправился к князю испрашивать позволения; через минуту явился он, неся кандалы; меня посадили, и не прошло мгновения, как бедные ноги мои были скованы. Кто был поближе, со смехом спрашивал:
– Якши? Дикен-дюи? Эй, давелла гаккец! Эй, джалиа, джалиа! ( Якши – по-татарски, хорошо; дикен-дюи – по-чеченски, то же; давелла гаккец – твой отец ест свинью, или просто «ты свиноедов сын»; джалиа – собака.) Надо было поскорее уходить; иначе слова превратились бы в угрозы более действительные, а я должен был молчать и, как вещь бездушная, не чувствовать, не мыслить. Меня ввели в высокую и просторную саклю. В стене вделан камин; яркое пламя разведенного огня обливало светом трех чеченок, варивших баранину, и, играя на стволах ружей и пистолетов, на клинках шашек и кинжалов, терялось в углах комнаты.
При входе нашем чеченки поднялись.
– Возьми его! – говорил мой мюрид, сдавая с рук на руки какой-то старушке, сгорбленной тяжелыми 50 годами: – Посади его куда-нибудь да посмотри за ним; мне надобно идти.
Добрая старушка усадила меня подле самого огня на мягкой кожаной подушке. Я поблагодарил ее как умел. Вероятно, хозяйка приняла участие во мне, потому что продолжала, указывая пальцем на котел с лакомой бараниной:
– Якши? Твоя коп кушай будет!
Я не говорил вам, что переезд мой из Чишек в Доч-Морзей был в последних числах осени. Единственная рубашка, бывшая на мне, давно сгнила; сапоги, носки и исподнее платье снял с меня Эрс-мирза, начальник отряда Гихинского леса, когда, отуманенный сильной потерей крови и оглушенный ударом в голову, я без памяти с карабахца моего упал в ряды неприятеля. Теперь в сюртуке, босой и в шароварах, истертых цепями, в холодный осенний день – судите сами, сколько я обрадовался теплому огню…
Читать дальше