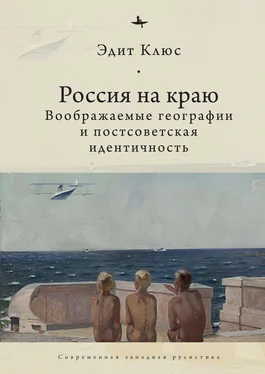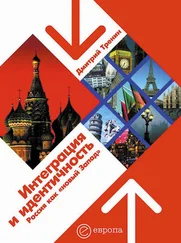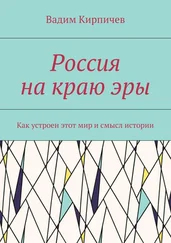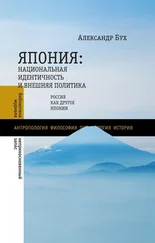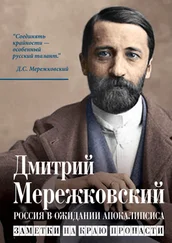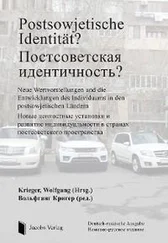По мнению Бхабхи, в постколониальный период взаимоотношения между периферией и центром могут стать решающими для культурного возрождения. Он обращается к этим противолежащим геокультурным пространствам, чтобы найти за пределами противостояния обусловленный обменом культур путь к другой, более богатой, так называемой гибридной форме сознания, которая может принести пользу каждому из сообществ. Бхабха опровергает традиционный центристский предрассудок, утверждая, что периферия – это место, богатое сюжетами и «дискурсами меньшинства», которые сами по себе могут стимулировать изменения и возрождение в той мере, в какой обитатели центра готовы их воспринять. Решение, которое Бхабха предлагает для ликвидации разрыва между центром и периферией, заключается в том, чтобы открыть эти дискурсы меньшинства для общества, для медиа, сделать их слышимыми и восстановить подавленные воспоминания, которые прольют новый свет на отношения между развитым и развивающимся мирами [Bhabha 2004: 10–13].
Ключевой вопрос для России – действительно ли периферия и ее дискурсы в состоянии стать таким источником культурного возрождения и новизны. На этот вопрос положительно ответил основатель советской семиотики Ю. Лотман, десятилетиями работавший, кстати, на периферии империи, в балтийской провинции, в городе Тарту. Независимо от постмодернистской и постколониальной теорий Лотман разработал концепции центра и периферии в применении к проблеме возрождения культур [Lotman 1990: 134]. В книге «Семиосфера» [Lotman 1990] в качестве одного из основных структурных элементов своей главенствующей концепции семиосферы он выделяет культурное пространство, где слова и вещи претерпевают семиозис, или процесс порождения значений. Согласно Лотману, в центре культурного пространства «участки семиосферы» поднимаются «до уровня самоописания», выражая таким образом нормативную идентичность. Со временем «они приобретают жестко организованный характер и одновременно достигают саморегулировки». Однако «одновременно они теряют динамичность и, исчерпав резерв неопределенности, становятся негибкими и неспособными к развитию» [Лотман 1996: 179]. В понимании Лотмана, слабость центра заключена в его стремлении к самоизоляции и склонности к отсутствию гибкости.
В противоположность этому, периферия переосмысливается Лотманом как культурно динамичное пространство нового роста, совершенно отличное от политически и экономически эксплуатируемых периферийных территорий империи, представленных в постколониальной критической теории. Здесь периферия становится зоной идеологического вызова и живого творчества, где изжитые догмы встречают сопротивление, а слова обретают смысл: «На периферии – чем дальше от центра, тем заметнее – отношения семиотической практики и навязанного ей норматива делаются все более конфликтными. Тексты, порожденные в соответствии с этими нормами, повисают в воздухе, лишенные реального семиотического окружения, а органические создания, определенные реальной се миотической средой, приходят в конфликт с искусственными нормами» [Там же]. Периферия, таким образом переопределенная, становится «областью семиотической динамики», «полем напряжения, в котором вырабатываются новые языки» и границей «агрессии маргинальных форм» [Там же].
Мышление Лотмана в какой-то мере совпадает с постколониальной и постмодернистской теориями, несмотря на то что он оперирует терминологией семиотики, использует понятие семиосферы для моделирования динамики письменной культуры и подразумевает только социальные и геополитические отношения. Как и в других современных теориях культуры, у Лотмана новое идет с периферии, от границы, от края, а центр – нечто в своей жизнеспособности зависящее от периферии. Эта точка зрения, не чуждая советским и мировым интеллектуальным тенденциям 1980-х годов, дает контекст для понимания русской критической мысли на тему идентичности начала XXI века [Berry 1999: 145–147] [12] По-видимому, многим русистам в Соединенных Штатах неизвестны концепции периферии у Лотмана и Мамардашвили. Опираясь на Бхабху, Берри и Эпштейн [Berry 1999: 145–147] заявляют, что реальное возрождение в постсоветское время может произойти благодаря «альтернативным, ранее маргинализированным или нелигитимным источникам» или же «вторжению зарубежной мысли».
.
Понятие периферии привлекает внимание еще одного ведущего мыслителя советской эпохи, грузинского философа М. Мамардашвили, чьи работы оказали значительное влияние на философа М. Рыклина и московских концептуалистов – художников и писателей. Получив образование в Москве, Мамардашвили большую часть своей карьеры провел на периферии советской империи, в частности в Чехословакии и Грузии. В 1986 году он написал «Введение в философию», произведение, задуманное для того, чтобы побудить студентов Тбилисского университета выйти за рамки догматических советских представлений. В своих лекциях он описывал человеческое сознание посредством парадоксальной метафоры сферы, где центры и периферии многочисленны и относительны: эти центры и периферии существуют локально и взаимосвязаны друг с другом. Мамардашвили желал избавить своих студентов в Тбилисском университете от мысли, что имеется только один центр, а все остальное менее ценно, чем этот центр. Он предлагал им осмыслить нецентрализованные понятия честности и неподкупности и принять всю полноту человеческого существования [Мамардашвили 1996: 96].
Читать дальше