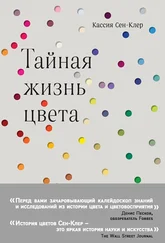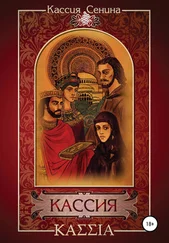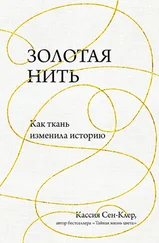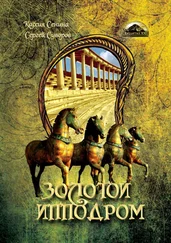Когда новость о пленении короля дошла до Англии, большой совет королевства отправил двух посланников-цистерцианцев в Германию, чтобы найти пропавшего монарха. Им это удалось. Они нашли короля в Оксенфюрте, маленьком неприметном городке недалеко от Вюрцбурга. Король принял монахов «любезно и радостно», они сообщили ему жизненно важные новости о предательстве брата и о том, что король Филипп нацелился на земли Ричарда на континенте.
Потребность Ричарда в деньгах была так велика, что она перевесила любую благодарность, которая еще могла остаться в его душе. По возвращении в Англию он забрал шерсть и этого года тоже. «Ибо, когда мы были отпущены императором, – сказал он аббатам, которые позже приехали к нему с визитом, – мы вернулись в большой бедности в нашу страну, и, полагаясь на вас в нашей острой необходимости, мы взяли у чужеземных купцов то, что они должны были за вашу шерсть, на наши необходимые цели» [228] Quoted in Jowitt Whitwell, pp. 5–6.
.
Цистерцианцы были вне себя от ярости. Томас Мертонский, хроникер и аббат монастыря Мо в Уэст-Райдинге Йоркшира, утверждал, что даже после того, как его обитель «отдала три сотни марок деньгами и ценностями, да будет известно, шерстью, чашами и другими сокровищами», более было взято «насилием и обманом, ибо они обещали все нам возвратить». Его слова подтверждает Хигден в XIV в. в своей «Универсальной истории»: «Забрали всю шерсть белых монахов и каноников». Это действительно было серьезно. Цистерцианцы более других религиозных орденов в Англии зависели от шерсти.
Еще более болезненной делал эту потерю тот факт, что эта шерсть, скорее всего, была уже заранее продана иностранным купцам в обмен на монеты. Покупатели едва ли проявили сочувствие, и невозможность выполнить сделку со своей стороны оставляла аббатов с долгами, которые им предстояло выплачивать десятилетиями. Уильям Ньюбургский испытывал отвращение к поведению короля. «Таким образом, – написал он, – грабеж этих служителей церкви под видом лести привел самые прославленные из их монастырей в состояние ужасающей бедности».
Шерсть была двигателем финансов Англии. Она поощряла спекуляцию и увеличение количества кредитов. Она сыграла роль и в перераспределении богатств, увеличив пропасть между самыми богатыми и самыми бедными и ускорив падение мелкопоместного дворянства, одновременно обеспечив Британии место в более широких европейских деловых кругах. Без богатства, появившегося от купли-продажи шерсти, едва ли Ричард Львиное Сердце смог бы сыграть такую важную и затратную роль в Третьем крестовом походе. И это естественно, что шерсть стала средством для выкупа короля. Обработка, производство и торговля этим сырьем были главным занятием для многих, от мелких крестьянских хозяйств до гильдий и мастерских, как та, что появилась на берегах реки Уз. Шерсть была настолько вездесущей, что фигурировала в самых разных ситуациях – от одежды вымышленного разбойника до игр банкиров с кредитами и реальной выплаты за возвращение короля. В более поздние годы монархи проявляли большее уважение к гильдиям и монахам, вероятно помня о ссудах, которые они могли бы им дать. В 1364 г. король Эдуард III поставил «Мешок с шерстью», большое, набитое шерстью сиденье для спикера палаты лордов: это было красноречивое напоминание о той важнейшей роли, которую шерсть играла в процветании Англии. Она остается на почетном месте до сегодняшнего дня.
7. Бриллианты и пышные воротники. Кружево и роскошь
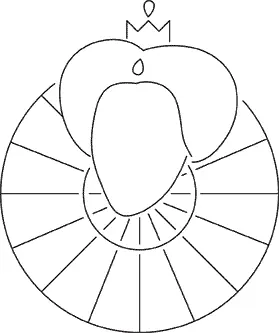
«Греческий язык, сэр, как кружево. Каждый получает от него столько, сколько может».
Сэмюэл Джонсон в книге Джеймса Босуэлла «Жизнь Сэмюэла Джонсона», 1791
Девушка, опустив глаза, смотрит на работу, полностью поглощенная ею. Она сидит комнате, настолько лишенной деталей, что трудно сказать, действительно ли это комната или это пустота, возникшая вокруг ее сосредоточенности. На ней платье сияющего лимонного оттенка, волосы убраны назад в прическу из косичек и крупных локонов. Наши глаза следуют за ее взглядом: вот ее пальцы, вот буква V, образованная двумя коклюшками, с помощью которых она плетет кружево. Девушку – ее имени мы не знаем – Ян Вермеер написал ближе к концу карьеры, в 1669 или 1670 г., возможно, для Питера Класа, тоже художника периода золотого века голландской живописи. Картина известна под простым названием «Кружевница» [229] Schütz, p. 236.
.
Читать дальше
![Кассия Сен-Клер Золотая нить. Как ткань изменила историю [litres] обложка книги](/books/438680/kassiya-sen-cover.webp)
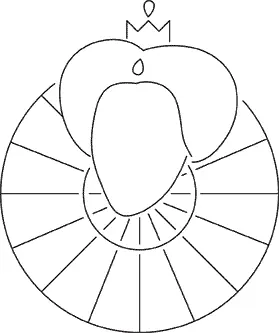
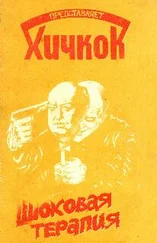
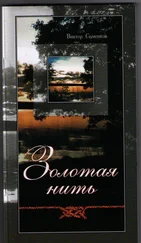
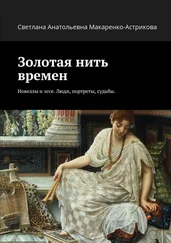
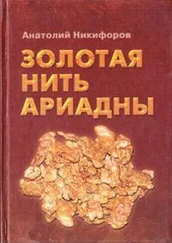
![Кассия Сен-Клер - Золотая нить. Как ткань изменила историю. [калибрятина]](/books/400123/kassiya-sen-thumb.webp)
![Кассия Сен-Клер - Тайная жизнь цвета [litres]](/books/405253/kassiya-sen-kler-tajnaya-zhizn-cveta-litres-thumb.webp)