Исходя из того что мы знаем о методах Оссендовского, в своих документах он подгонял факты под свершившиеся события и, очевидно, взял первые попавшиеся «громкие» названия кораблей флота и вставил их в свое произведение. Если бы немецкие шпионы действительно собрались взрывать Балтийский флот, их первоочередной целью должны были бы стать новейшие линкоры – «Петропавловск», «Полтава», «Гангут» и «Севастополь», а все прочие корабли флота имели значительно меньшую боевую ценность.
Документы Сиссона упоминались в приговоре Щастному. Он обвинялся в том, что «подготовлял условия для контрреволюционного государственного переворота… С этой целью, воспользовавшись тяжким и тревожным состоянием флота, в связи с возможной необходимостью, в интересах революции, уничтожения его и кронштадтских крепостей, вел контрреволюционную агитацию в Совете комиссаров флота и в Совете флагманов: … предъявлением в их среде провокационных документов, явно подложных, о якобы имеющемся у Советской власти секретном соглашении с немецким командованием об уничтожении флота или о сдаче его немцам, каковые подложные документы отобраны у него при обыске (выделено мной. – К. Н. )».
Верил ли сам Щастный в то, что эти документы действительно исходят из немецкого Большого генерального штаба, или все же понимал их подложность, но пользовался ими для достижения нужного эффекта? Вряд ли можно будет когда-либо ответить на этот вопрос категорически. Также возникает вопрос: зачем он привез эти фотокопии в Москву? Очевидно, не для того, чтобы передать их своему начальнику – наркому Троцкому, поскольку эти документы были изъяты у Щастного при обыске, а не переданы им Троцкому до ареста. Нельзя исключать, что Щастный собирался показать эти документы кому-то из высокопоставленных моряков в Москве.
Откуда Щастный мог получить некоторые из документов Сиссона? Несомненно, мы далеко не все знаем об их обращении в России в 1918 г. Известно, что до 13 мая 1918 г. документы видел, по свидетельству В. Н. Старцева, «лейтенант Бойс из британской разведывательной службы». Поскольку британская разведка была знакома с документами Сиссона, их вполне мог получить и распространять британский военно-морской атташе Кроми. Вообще деятельность британской разведки в Петрограде весной-летом 1918 г. нуждается в дальнейшем изучении. Функционирование в городе связанной с Британией организации «ОК», состоявшей из офицеров русской морской разведки и контрразведки, которая работала по меньшей мере до весны 1919 г., свидетельствует о размахе этой деятельности.
В этой связи нельзя не процитировать немецкого генерала Рюдигера фон дер Гольца (1865–1946), командовавшего немецкими войсками в Финляндии весной 1918 г.: «Англичане взяли под контроль незамерзающее мурманское побережье и Мурманскую железную дорогу. Оттуда они могли бы оказывать давление на Петербург, свергнув там власть большевиков и получив в свое распоряжение русский флот в Кронштадте, все еще находившийся под контролем старорежимных царских офицеров и занимавший достаточно самостоятельную позицию по отношению к петербургским властителям…». Практически так же выглядела ситуация в глазах Ленина: «Мурман на севере, чехословацкий фронт на востоке, Туркестан, Баку и Астрахань на юго-востоке – мы видим, что почти все звенья кольца, скованного англо-французским империализмом, соединены между собой».
Буквально во время ареста Щастного (25–27 мая 1918 г.) случился Чехословацкий мятеж. Принято считать, что его спровоцировала телеграмма Троцкого о разоружении Чехословацкого корпуса, продвигавшегося по Транссибирской железной дороге во Владивосток. Но в последнее время опубликованы документы, которые доказывают, что Чехословацкий мятеж был спланированной англо-французским командованием акцией, целью которой было свержение советской власти. Решение о нем было принято еще в конце апреля 1918 г., поэтому телеграмма Троцкого представляется не провокацией, а скорее запоздалой реакцией на сложившуюся ситуацию. Напомним, что именно с Чехословацкого мятежа началась полномасштабная Гражданская война в России.
Суд над Щастным в июне 1918 г. стал знаковым событием. Именно на этом суде был вынесен первый официальный смертный приговор в Советской России. Протест левых эсеров против этого приговора стал одним из клиньев, вбитых между ними и большевиками. Кстати, следует подчеркнуть, что левые эсеры протестовали не против смертной казни вообще, а против права судов выносить смертные приговоры. При этом они считали допустимым применение смертной казни в административном порядке, например органами ВЧК. Щастный защищался, опираясь исключительно на формальный анализ своих действий, отрицал всякую антисоветскую деятельность, из пунктов обвинения признал лишь очевидный факт разглашения секретной телеграммы о минировании судов флота. Отметим, что процесс был открытым, репортажи о суде над Щастным и полный текст приговора печатались многими газетами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
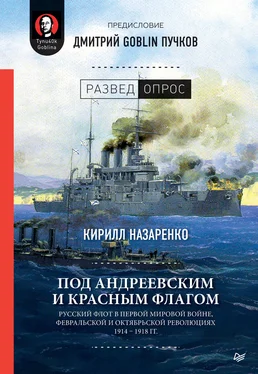


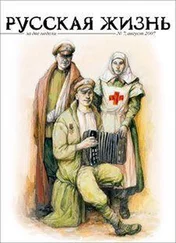
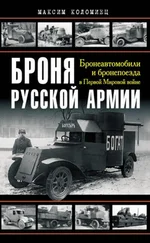

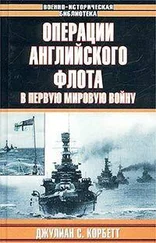
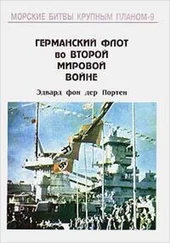
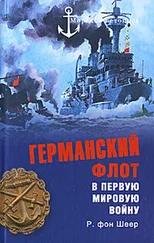
![Рейнхард фон Шеер - Германский флот в Первую мировую войну [изд. Вече (2011 г.)]](/books/416093/rejnhard-fon-sheer-germanskij-flot-v-pervuyu-mirovuyu-thumb.webp)
![Рейнхард фон Шеер - Германский флот в Первую мировую войну [изд. Эксмо (2002 г.)]](/books/416374/rejnhard-fon-sheer-germanskij-flot-v-pervuyu-mirovuyu-thumb.webp)
