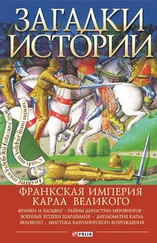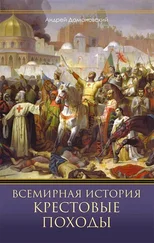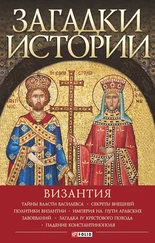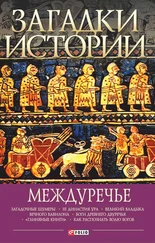Видимо, чтобы понять Византию, мало совершить плавание «в край священный Византии», нужно еще и суметь покинуть его, чтобы, уже познав изнутри, взглянуть еще и со стороны.
Не была ли именно Византия тем «золотым сечением» соотношения Запада и Востока, Европы и Азии, которое способно дать нам по меньшей мере символический пример примирения и взаимодействия несовместимых, на первых взгляд, начал? Не об этом ли писал Ж. Дагрон, отмечая, что «Византия, располагавшаяся в равной степени в Европе и в Азии, блистательно игнорировала фатальную разницу между двумя континентами, создав на этой основе уникальную политическую систему и культуру»? И не здесь ли были «матерние органы Европы»?
Вероятно, именно поэтому в Византийской цивилизации существовало представление о порядке-таксисе гармоничного единения противоречивых начал бытия. Как проницательно замечал Сергей Сергеевич Аверинцев в статье «Порядок космоса и порядок истории», «для византийской культуры представление о мировом бытии в пространстве и времени было связано, прежде всего, с идеей порядка. Само слово «космос» означает «порядок». Изначально оно прилагалось либо к воинскому строю, либо к государственному устройству, либо к убранству «приведшей себя в порядок» женщины и было перенесено на мироздание Пифагором, искателем музыкально-математической гармонии сфер. В философской литературе слово это выступает в контексте целого синонимического ряда – «диакосмесис», «таксис» и так далее, – объединенного идеей стройности и законосообразности». Видимо, эту определяющую, системообразующую черту Византийской цивилизации интуитивно, гением своего художественного воображения, постиг У. Б. Йейтс, замечавший, что в Византии даже «Satan always the still half divine Serpent, never the horned scarecrow of the didactic Middle Ages» («Сатана всегда был еще и полу-Божественным Змием, никогда не став рогатым пугалом надменного дидактически-менторско-морализаторского (западного. – А. Д. ) средневековья»).
* * *
В литературе весьма распространено сравнение Константинополя и, шире, Византии с мостом между двумя мирами – Европой и Азией, Западом и Востоком. Сегодня, после завершения строительства подводного железнодорожного тоннеля под проливом Босфор, построенного в рамках проекта «Мармарай» для соединения европейской и азиатской частей Стамбула, эта метафора может быть весьма существенно дополнена. Общая протяженность тоннеля – 13,6 км (из них 1,4 км – под водой), самый глубокий его участок находится на глубине 60 метров от поверхности залива. Византия в этом контексте является не столько конструктом, наброшенным поверх двух эфемерно связуемых лишь ею миров, сколько основанием, базисом, фундаментом (на украинском это звучит явно полифоничнее в данном контексте – «підвалини», «підґрунтя», «підмурівок») для них обоих. И, таким образом, она демонстрирует их неразрывное единство и целокупность. Хотя, с другой стороны, не является ли она червоточиной, разъедающей оба мира изнутри, которые, вследствие этого, никак не могут исцелиться, будучи зараженными тлетворными метастазами друг друга? Вспомним, что уже в первые же сутки работы после начала движения поездов 29 октября 2013 г. в тоннеле произошло отключение электричества и пассажирам пришлось выбираться из него самостоятельно.
В любом случае, эта «subterranean dialectic» («подземная диалектика») (использую словосочетание Сильвии Ронче) неизбывно присутствует в византийских штудиях современности, ведь, согласно справедливому замечанию исследовательницы, «византиноведение теперь более чем когда-либо является частью Zeitgeist (нем. «дух времени». – А. Д. ). Восстановление памяти народов, вошедших на сегодняшний день и продолжающих идти (в Европу? – А. Д. ), о том, что Европа, для создания которой так много сделала Византия, возрождение общего прошлого посредством изучения общего византийского знаменателя, могут быть и должны стать сильной стороной нашей дисциплины».
Итак, путешествие в мире «ментальной географии», как видим, возможно и даже необходимо в рамках Византии и вместе с Византией, и то, где в итоге окажется на ментальной карте цивилизационного пространства ее образ, будет определять одновременно и координаты того места, в котором, в итоге, находимся мы сами. Именно «тяга к проницанью / В искусно созданное вечности панно» заставляет тосковать обличенное «в смертной твари тлен» сердце особой тоской – тоской (само)познания и (само)понимания, поиском того «фундаментального компонента» – основы, на которой зиждилась цивилизация Византии и продолжает стоять восточно-христианская цивилизация.
Читать дальше
![Андрей Домановский Загадки истории. Византия [litres] обложка книги](/books/396271/andrej-domanovskij-zagadki-istorii-vizantiya-litr-cover.webp)
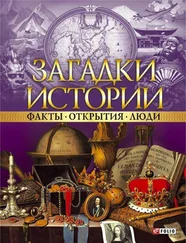
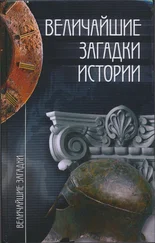
![Андрей Жвалевский - Банальные истории [litres]](/books/388477/andrej-zhvalevskij-banalnye-istorii-litres-thumb.webp)
![Андрей Домановский - Загадки истории. Крымское ханство [litres]](/books/396272/andrej-domanovskij-zagadki-istorii-krymskoe-hanst-thumb.webp)
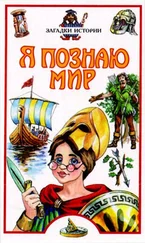
![Андрей Ланиус - Грибные истории [litres самиздат]](/books/437217/andrej-lanius-gribnye-istorii-litres-samizdat-thumb.webp)