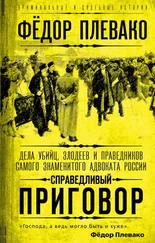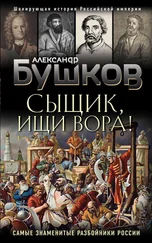Впечатляющая военная карьера. Не зря Военная энциклопедия, чьи авторы не были склонны раздавать комплименты впустую, именует Меншикова «даровитым полководцем».
Кроме того, Меншиков долгие годы был опорой Петра во многих гражданских делах. Одним из ближайших соратников. Не зря сам Петр многое ему прощал, а во время очередного следствия отменил предстоящий суд, сказав примечательные слова: «Где дело идет о жизни или чести человека, то правосудие требует взвесить на весах беспристрастия как преступления его, так и заслуги, оказанные им отечеству и государю, и буде заслуги перевесят преступления, в таком случае милость должна хвалиться в суде». При всей моей нелюбви к Петру I все же считаю, что на сей раз он сказал золотые слова. Заслуги Меншикова многократно превышают его прегрешения. И совершенно справедливо, что в современной России ему поставлены три памятника: в Петербурге, в пригороде Петербурга Колпино и в том самом Березове, где Меншиков в ссылке окончил свои дни (сейчас – поселок городского типа Березово в Ханты-Мансийской автономной области). Есть за что…
В царствование Анны Иоанновны Бирон, в общем, ничего особенно полезного для государства не сделал. Зато фельдмаршал Миних, тоже порой допускавший вольности в обращении с казенными суммами, – совсем другого полета человек. Один из лучших русских военачальников своего времени – именно под его командой русские полки взяли штурмом серьезнейшие Перекопские укрепления, ворвались в Крым и добрались до ханской столицы Бахчисарая, каковую, чтобы отплатить за все набеги, спалили дотла.
Будучи президентом Военной коллегии, Миних провел немало толковых реформ, слишком обширных, чтобы рассказывать о них подробно (тем более что в одной из предыдущих книг я это уже делал). Упомяну лишь об одной: именно чистокровный немец Миних уравнял русских офицеров с иностранцами. Еще со времен Петра принятые на службы иноземцы получали жалованья вдвое больше, чем русские, но Миних велел платить всем одинаково (не знаю, право, поднял ли он русским жалованье до уровня иностранцев, то ли «варягов» опустил до уровня русских – вероятнее всего, первое).
Среди прочего Миних в сжатые сроки достроил давно заброшенные Обводной и Ладожский каналы, проложил дорогу по берегу Невы от Шлиссельбурга до Санкт-Петербурга, построил шлюзы на реке Тосне. До самой смерти оставаясь подданным немецкого графства Ольденбург, он на военном и гражданском поприще сделал для России гораздо больше, чем многие чистокровные русские. Кстати, в отличие от многих, выгребавших из казны сотни тысяч, а то и миллионы, Миних брал относительно скромно, даже меньше тогдашнего «среднего уровня», – хотя его положение сплошь и рядом позволяло грести в четыре руки…
Петр Шувалов серьезно занимался оснащением русской артиллерии новыми образцами орудий – правда, не всегда удачными. Во время Семилетней войны за свой счет вооружил и обеспечил оружием и лошадьми конный корпус в 30 000 человек.
В биографии Григория Орлова, изучай ее хоть в лупу, хоть под микроскопом, не найдешь вообще ничего полезного, сделанного им для Отечества. Ну, разве что с Ломоносовым приятельствовал и частенько опрокидывал с ним чарочку-другую – но разве это заслуга? Препустейший был человек. Кто-то, правда, пустил в оборот придумку, будто бы Орлов вел переписку с Жан-Жаком Руссо, знаменитым писателем и философом, но последний, кого можно заподозрить в переписке с Руссо, это как раз Григорий…
Единственное, что можно поставить ему в заслугу, – подавление знаменитого Чумного бунта в Москве в 1771 году. Но это задача, с которой справился бы любой армейский офицер…
У его брата Алексея заслуги есть, но невеликие. Он, правда, во время знаменитого Чесменского сражения, где русский флот вдребезги расколошматил турецкий, командовал эскадрой и был признан главным победителем, за что кроме прочих наград получил почетную приставку к фамилии – «Чесменский». Однако он, совершенно не разбиравшийся в морских делах, командовал чисто номинально, победу обеспечили опытные флотоводцы – адмиралы Спиридов и Грейг.
(К слову, именно во время этого сражения немалую личную отвагу проявил третий из братьев Орловых, Федор, никогда не числившийся в фаворитах. Адмирал Спиридов и он на флагманском корабле «Евстафий» взяли на абордаж 90-пушечный фрегат командующего турецким флотом капудан-паши [чин этот у турок соответствовал русскому «полному» генералу или адмиралу]. Схватка получилась такой отчаянной, что оба корабля загорелись. Спиридов и Орлов, не теряя ни минуты, высадили экипаж в шлюпки, и, едва они успели отплыть, оба флагмана после взрыва крюйт-камер, то есть пороховых погребов, взлетели на воздух. Капудан-паша Гассан-бей, впрочем, тоже спасся и впоследствии заочно познакомился с Алексеем Орловым при довольно пикантных обстоятельствах, о чем подробнее – во втором томе.)
Читать дальше
![Александр Бушков Сыщик, ищи вора! [Или самые знаменитые разбойники России] [litres] обложка книги](/books/384966/aleksandr-bushkov-sychik-ichi-vora-ili-samye-zname-cover.webp)
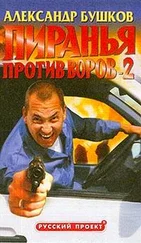


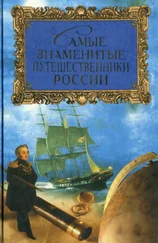

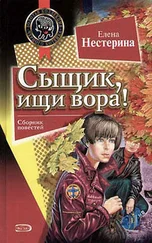
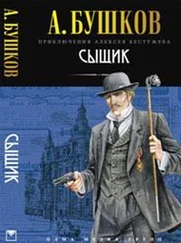

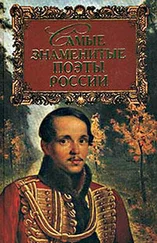
![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/432372/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal-thumb.webp)