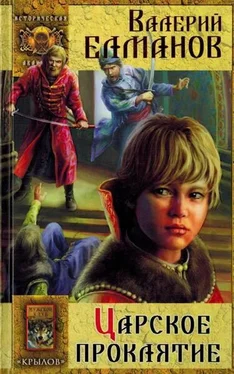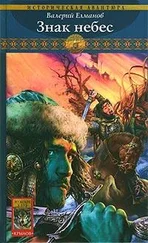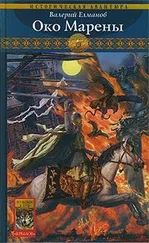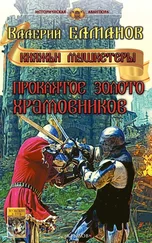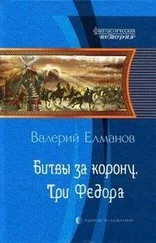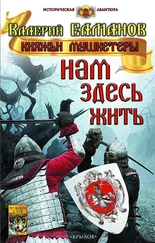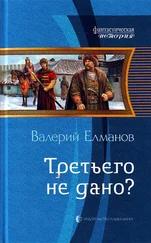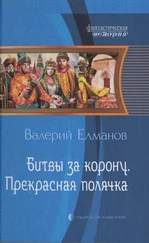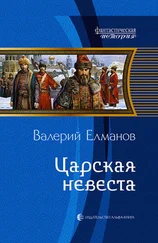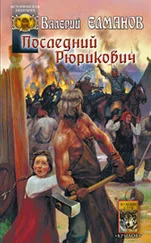От ломоты в ногах не умирают, тем более так стремительно. Вот только лекарь был жидовин и падок на золото. А еще он недавно приехал из Венеции, а до того долгое время жил в Риме. А еще он знал Софью. И все это в совокупности давало простой ответ, почему он лечил Иоанна Молодого именно так… как нельзя было лечить.
Теперь же получалось, что он сам стал продолжателем черного дела своей матери, окончательно истребив одинокий побег той, чужой ветви рода, тем самым выполнив предсмертный завет матери, которая, уже находясь на смертном одре и прощаясь с сыном, выдохнула последнее напутствие: «Добей».
Тогда он в испуге отшатнулся, с силой вырвал руку из ее горячечной и пухлой как подушка, ладони и, может быть, так и не осмелился бы на страшное, если бы не нашлась еще одна, которая иными словами, но каждую ночь по сути шептала то же самое, страшное и бесстыдное: «Добей».
И вот он выполнил, добил. А теперь из-за этого дурака, что сейчас стоит перед ним, такой же дородный, как и он сам, — ну никому ничего нельзя поручить, все самому — он, великий князь всея Руси проклят и не только лично, но и со всем своим родом, то есть братьями и сестрами.
Ну, они-то ладно, а вот то, что прокляты его дети, причем изначально, еще не успев родиться, не успев даже побывать во чреве, — это страшно.
Ему почему-то вспомнилась нелепая выдумка матери, которую она потом с упоением рассказывала своему супругу Иоанну. Будто когда она ходила молиться пешком в Троицкую обитель, ей там явился сам святой Сергий, держа на руках младенца, приблизился к Софье и «ввергнул его в ее недра», после чего она затрепетала от столь удивительного видения, с превеликим усердием облобызала мощи святого и через девять месяцев родила сына. Зачем ей понадобилось выдумывать, а потом рассказывать подобную глупость, стало понятно лишь гораздо позже — готовила отца к тому, чтобы передал бразды правления не Димитрию, а ему, Василию. Готовила преднамеренно, заранее зная, что прикончит своего пасынка Ивана, после чего десять лет терпеливо выжидала подходящий момент, не уставая повторять эту выдумку.
«Любопытно было бы знать, — подумалось ему, — а с учетом того, что он — да, да, именно он, чего уж тут юлить перед самим собой — повелел убить своего родного племянника, то кто на самом деле вверг его во чрево, из которого он появился на божий свет? Хотя чего уж тут неясно, — ответил со вздохом. — Я истинный сын не только своей матери, но и своего отца. Такой же осторожный, но и такой же жестокий, когда это возможно и не грозит никакими карами. И что мне теперь делать — истинному сыну? Как жить дальше?»
— Уходи, — шепнул он еле слышно, закрывая лицо руками. — Я тебя не забуду, как и обещал, но сейчас уходи.
Захарьин послушно двинулся к двери. Не дойдя до нее двух шагов, он повернулся и глухо произнес:
— Мне-то что ж. Я, почитай, покойник. А вот сынов…
И вышел. Остальных добровольцев-палачей Димитрия, чьи имена назвал Михайла Юрьич, Василий Иоаннович так никогда и не увидел — они не протянули и сорока дней после убийства. Каждый раз, получив известие о смерти очередного, великий князь мрачно прикидывал, когда придет очередь его самого, и каялся, каялся, каялся в содеянном. Правда, длилось это недолго, бесследно проходя и всплывая в очередной раз лишь во время осознания того, что у него так и нет наследников.
А с Михайлой Юрьевичем Василий рассчитался сполна. Поначалу хотел было положить на него опалу за дерзость, но пойти на такое не отважился. Если тот развяжет язык — быть худу. Тогда родные братья получали прекрасный повод для того, чтобы учинить промеж себя сговор. Да и потом — нужна ли ему слава убийцы племянника? Это добрая на воротах висит, а худая — она по свету летит, да так скоро, что нипочем не догнать.
Правда, чтобы его милость выглядела не так явно, выказал он ее не сразу, иначе могут догадаться, за что столь щедрая плата. Выждав пару лет, великий князь дал Михайле Юрьичу чин окольничего. Затем, в том же 1511 году, во главе посольства отправил его в Литву говорить об обидах и убытках, попутно дав поручение наладить тайную переписку с сестрой великого князя, вдовствующей княгиней литовской Еленой. На следующий год случился первый из походов на Смоленск. И тут не обошлось без Михайлы Юрьича.
Но чин боярина Василий давать ему не спешил — помнил дерзость Захарьина. Может, тот так и остался бы без него, но осенью 1517 года великому князю донесли, что находившийся в московском плену хан Абдыл-Летиф собирается его убить.
Читать дальше