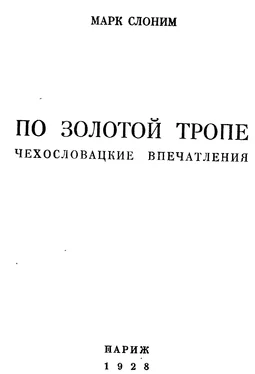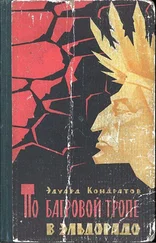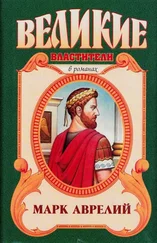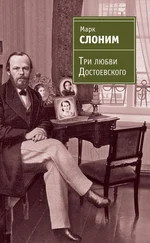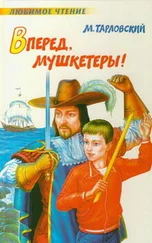Католический семинарий Клементинума превратился впоследствии в университет. Сюда переселилась часть студентов и профессоров со знаменитой Карловой площади — древнего гнезда пражской учености. Здесь прошли поколения студентов, научившихся, не смотря на все противодействия, любить родной народ и язык. Из этого огромного здания, с его многочисленными дворами, часовнями и высокими красными куполами, взлохмаченный Бакунин пытался руководить восстанием, вспыхнувшим после первого славянского съезда, на Духов день 1848 года. Отсюда двигались студенты к баррикаде на Целетной улице, возле Пороховой Башни, и Клементинуму грозили пушки Виндишгреца, ядрами и картечью подавившего пражское возмущение.
Перед входом в Клементинум, у набережной Влтавы — Крестовая площадь, церковь, статуи. Карл IV с пьедестала рассеянно смотрит на грузовики с пивными бочками. Здесь — предел Старого Города. Дальше набережные и башни Карлова моста.
Для того, чтобы лучше увидать панораму левого берега Праги, надо по набережным вернуться к Национальному Театру.
С моста Легионов, где на красных фонарных столбах золотые львы в кружках лезут в небо, разевая пасти и распуская озорные хвосты, видны и Градчаны, и Малая Страна. Зеленоватая Влтава, кажущаяся необыкновенно широкой и многоводной, быстро течет в низких берегах, свергаясь с плотины у Карлова моста.
На другом берегу, на холме, уступы которого, пестрят зеленью садов и красными пятнами черепичных кровель, осел Град — дворец и крепость, и за его великолепной громадой точно втыкаются в небеса зубчатые острия и стрельчатые готические башни собора св. Вита.
Ниже, у основания обрыва — каменной глыбой — гигантское однообразное сооружение — казармы Чернина. Их окна — бойницы в крепостной стене. А затем сады, иглы башен, зеленые купола церквей — тоненькие полоски улиц, сбегающих от Града к Малой Стране, малому городу, особенно выросшему в XVI–XVII столетиях. Среди серого камня дворцов — деревья: парк Валленштейна. Дальше сплошная зелень садов Летны, огибающих новый холм, и синяя дымка, в которой тают излучины реки.
Когда перед заходом солнца горит небо над Градом, когда на багровом фоне мрачнеют, как копья, шпили, острия и башни, — каменная гордыня соборов и крепостей кажется недосягаемо высокой. Она угрозой висит над низкорослой толпой домов у ее подножия, над беспечными, засыпающими садами, над мирной струей реки, в которой, дрожа, бегут розовые облака, — и почему то всегда вспоминаешь войны и разгромы и пожар разорения, бушевавший, как этот кровавый закат. Бессильные страсти народных возмущений разбивались у стен Градчанских твердынь. Оттуда правили именем Кесаря императорские наместники и надменные сановники, и Град, владевший Прагой, приказывал всей стране. Века не прекращалась борьба, лилась кровь, и камень пражских дворцов и крепостей иссечен трагическими морщинами безумия, веры и страсти. Но о них уже начинает забывать нарядный и самоуверенный наследник.
——
Возле Карлова моста, на набережной, как раз у того места, где стояла императорская баня, небольшая терраса выступает над рекой, почти у самой плотины. Над скамейкой, где весной сидят сентиментальные парочки, зеленые ветви огромного дерева. Отсюда видна и левая часть реки: острова Славянский и Жофин, холмы фабричного Смихова, лесистая гора Петршин и высокая скала легендарного Вышеграда — фантастической колыбели чешского царства, столицы княжны Любуши, о которой слагались сказания и поэмы.
Когда загораются вечерние огни и трамваи светлыми бусинками перекатываются через мосты, — Град превращается в синее видение, отделяется от холма, летит к еще непогасшим облакам и потом, тяжелея, входит в ночь. Вода у плотины течет безостановочно, бесследно, как минуты и века, с мерным шелестом; пахнет влагой и весной, от Летны тянет легким запахом трав и листьев, — и вновь чудесными и таинственными становятся древние улички за Клементинумом.
——
Старый Город и Малую Страну соединяет Карлов мост. Карл IV выстроил его вместо моста Юдифи, названного по имени жены Владислава I.
В средние века пражане гордились им не менее, чем флорентийцы своим Понте Веккио.
Вход в него через башню, в которой в корзине были выставлены головы казненных в 1621 г. Десять лет оставались они там.
Слева от моста, из воды подымается другая башня — мельничная. Пожар уничтожил ее в XVI столетии, ее построили сызнова, при осаде шведов в 1648 году она была повреждена и через два столетия в нее попали австрийские ядра.
Читать дальше