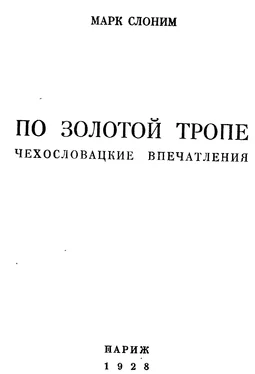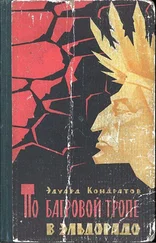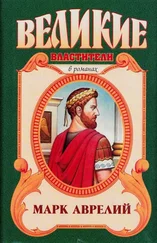Прогулка неизменна: от Пороховой Башни до Музея, от Вацлавского — по улице 28 октября, вниз, к реке, до моста Легионов и Национального Театра, того самого, который в конце прошлого столетия был воздвигнут по народной подписке, сгорел, — а через три месяца новые шесть миллионов были собраны для новой постройки.
Оправдана гордая надпись внутри здания: narod — sobe. Она заставляет вспомнить, что усилия и жертвы привели к сегодняшнему завершению.
Эта уверенная в себе толпа, эти великолепные магазины, эти строящиеся дома, эта все полнее и шире развертывающаяся жизнь, — это Прага победы, пробужденная после столетий насильственного сна.
В дни национальных праздников по этим улицам идут многотысячные процессии. Над ними — древняя хоругвь гуситов, с красной чашей причастия, символом крови, на черном фоне, и бело-красный флаг государства, которое кровь, из тьмы унижения, возродила к новому бытию, и разноцветные вышитые знамена, доставшиеся в наследство от средневековых цехов, и красные полотнища рабочих союзов. Перед оркестрами музыки, легкой поступью, взявшись за руки, идут словачки в черных сапожках; ленты и ожерелья пляшут на их белых корсажах, развеваются их широкие юбки, светлеют пышные рукава; серебром и вышивками покрыты затейливые наряды мораванок — а за ними — чешские сокола в темных куртках, распахнутых над красными и зелеными рубашками, с перьями в ловких, круглых шапочках. Оркестры играют величавый гимн таборитов, и грустно поет затем медь о шумной, окровавленной Марице. Тысячи голосов, одним голосом с трубами и флейтами, повторяют песню любви и родины: «где домов мой». И стройными рядами крепко отбивает шаг этот народ, упорный и терпеливый, знающий силу дисциплины и тайну ритма массовых движений.
Сквозь рабство и бедность пронес он эту мечту о своем доме, и вот теперь он строит Новую Прагу.
Нетерпеливые патриоты хотят, чтобы как можно скорее стала она походить на другие столицы. Уже народился целый класс богачей и дельцов, выдвинувшихся за первое десятилетие чехословацкой независимости. Они спешат наверстать потерянное. Они стремятся одеваться, как англичане, вести дела, как немцы, развлекаться, как французы. Пуще всего боятся они упрека в провинциальности — и все достижения техники, все столичные выдумки желают они пересадить в Прагу. Небоскребы милее им дворцов XVII века. Пройдет несколько лет, и снесут они изящные дома с барочными украшениями на фасаде, с овальными лукарнами над оконными арками, эти строения, бывшие свидетелями и иезуитски-холодного царствования Иосифа II и постно-лицемерного века Марии Терезы. Рассыпятся прахом последние приюты чужеземной знати, последние остатки австрийского владычества; подземная железная дорога побежит под шумными улицами; красные и желтые автобусы загрохочут от рабочего предместья Жижкова до самого Града; стекло и бетон оденут землю запущенных скверов и площадей. Неудержим бег молодой столицы: недаром из Америки приезжает сейчас столько ее сынов, принося с собою размах и волю к переменам и обогащению. Но своеобразие Праги, конечно, не в автобусах и асфальтовых тротуарах, не в модных лавках с парижскими вертящимися манекенами, и даже не в этом внешнем благоустройстве, которым нынешние законные хозяева стремятся вознаградить свой город за недавнее умышленное к нему пренебрежение.
Оно в том, что «caput regni» растет на древней земле, и все чудеса машинного века взлетают к небесам на холмах старинного города, того самого, который Пьетро Капелла в XVII столетии назвал в своих латинских стихах — Praga dorata. И оттого, что здесь отбушевало столько страстей и похоронено столько безумия и мудрости — это нынешнее буйство молодости с ее напористой грубостью и мускулистостью кажется не самым нужным и не самым важным.
Есть несколько Праг, прорастающих одна в другую, имеющих разные возрасты и разные территории, и даже самая недавняя, торжествующая столица республики, нерасторжимо связана с той, прежней, с многобашенным городом поражений и мужества.
В разных кварталах — наслоения разнородных стилей — от готики до барокко, в строениях и памятниках отразились разные эпохи, — и все же, какое то единство встает из этого смешения, из этой архитектурной и исторической пестроты.
С необычайной пронзительностью раскрывается дух Праги — и это сосредоточенный и величавый дух трагедии. Его не могут заглушить ни веселье нарядного центра, ни песни, несущиеся из кабачков, ни звон пивных кружек в бесчисленных ресторанах, ни даже бодрый шепот тысячных толп, празднующих свою победу. Сосредоточенно развертывает Прага свиток своих мук и деяний; из всех концов ее слышится мерное и суровое повествование о прошлом.
Читать дальше