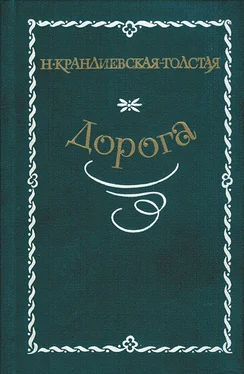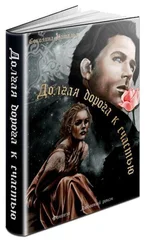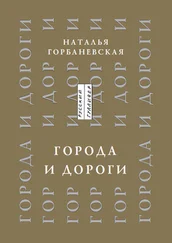И в доме тогда зажигаются свечи,
А их на стене повторяет трюмо.
Платок оренбургский накинув на плечи,
Она перечитывает письмо.
Письмо о разрыве, о близкой разлуке.
«Ты слишком умна, чтоб меня осудить…»
Почти незаметно дрожат ее руки.
Две просьбы в конце: позабыть и простить.
Свеча оплывает шафрановым воском,
И, верно, страдание так молодит,
Что женщина кажется снова подростком,
Когда на свечу неподвижно глядит.
Знакомая музейная хандра
Влечет меня по эрмитажным залам.
За окнами — Нева, снежинок мошкара,
И в небе — Петропавловское жало.
А здесь почиет в рамках красота
Нетленная, как в пышных саркофагах.
Мадонн мне улыбаются уста
И праздник Брейгеля кипит в цветах и флагах.
Там — рыбы Снайдерса, оленьи потроха,
Лимоны, устрицы на блюде,
Здесь — бабочка на виноградной груде
Навеки замерла, бессмертна и тиха.
Зал Рубенса. Цветы. Венерин грот.
Богиня возлежит на львиной шкуре,
Прикрыв рукою розовый живот.
Над ней крыло трепещет на амуре.
А рядом — холодеющий закат,
И мирт, и плющ в развалинах Лоррена.
Я возвращаюсь мыслями назад,
На кладбище надежд моих и тлена.
Воспоминания! Художник, не они ль
Вечерней жизнью нашей правят?
Закатов наших бронзовую пыль
В бессмертные виденья плавят?
Вздохнем и постоим. Густеет тень.
Проходит сторож со звонком по залам.
Так короток декабрьский этот день,
Так незаметно я устала.
И в сумерках, спускаясь на гранит
Дворцовой набережной, в вихре вьюги,
Я вспоминаю ласковый магнит —
Улыбку Леонардовой подруги.
Нас потомки не осудят,
Не до нас потомкам будет.
Все понятным станет в мире,
Станет дважды два четыре.
В пепле прошлого не роясь,
К свету выйдя из потемок,
Затянув потуже пояс,
В дело ринется потомок.
Потому, что будет дела
Больше, чем рабочих дней,
И мишени для прицела
Будут ближе и точней.
Но, пожалуй, будет нечем
Тешить музы баловство.
Ей на ветреные плечи
Ляжет формул торжество.
И крыла с такою гирей
Ей, крылатой, не поднять.
Ей, грешившей в старом мире,
Так и чудится опять,
Что, быть может, не четыре —
Дважды два, а снова пять!
Отшумят пустые шумы,
И отсеются дела.
Спросят внуки-многодумы:
Муза чем твоя жила?
Чем дышала в этом мире,
Взрытом бурею до дна?
И уликою на лире
Будет каждая струна.
Ты ответить внукам сможешь,
Не слукавишь для красы.
И терцины им положишь
Дивным грузом на весы.
«Писем связка, стихи да сухие цветы…»
Писем связка, стихи да сухие цветы —
Вот и все, что наследуют внуки.
Вот и все, что оставила, гордая, ты
После бурь вдохновенья и муки.
А ведь жизнь на заре, как густое вино,
Закипала языческой пеной!
И луна, и жасмины врывались в окно
С легкокрылой мазуркой Шопена.
Были быстры шаги, и движенья легки,
И слова нетерпеньем согреты.
И сверкали на сгибе девичьей руки,
По-цыгански звенели браслеты!
О, надменная юность! Ты зрела в бреду
Колдовских бормотаний поэта.
Ты стихами клялась: исповедую, жду! —
И ждала незакатного света.
А уж тучи свивали грозовый венок
Над твоей головой обреченной.
Жизнь, как пес шелудивый, скулила у ног,
Выла в небо о гибели черной.
И Елабугой кончилась эта земля,
Что бескрайные дали простерла,
И все та ж захлестнула и сжала петля
Сладкозвучной поэзии горло.
На озере Селигер
(1938–1940)
«Какая-то птичка вверху, на сосне…»
Какая-то птичка вверху, на сосне,
Свистит в ля миноре две тонкие нотки.
Я слушаю долго ее в тишине,
Качаясь у берега в старенькой лодке.
Потом камыши раздвигаю веслом
И дальше плыву по озерным просторам.
На сердце особенно как-то светло,
И птичьим согрето оно разговором.
«Слышу, как стукнет топор…»
Слышу, как стукнет топор,
В озере булькнет уклейка,
Птичий спугнув разговор,
Свистнет в сосне красношейка.
Читать дальше