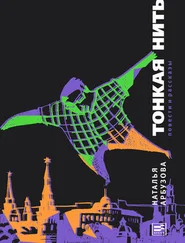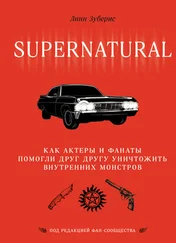Не было печали – черти накачали. Слез со столба, объятый неясным мечтаньем, и видит третьим глазом – едет участковый на велосипеде, как путный. Лёня едва успел кошки с перчатками в крапиву откинуть. Участковый спрашивает его, Лёню. А чего его спрашивать – вот он весь тут. Развернулся от крапивы, к лесу задом, к Дусиной избе передом, и своими двумя обыденными честными глазами ест участкового. Тот ему про Витька. Витёк завсегда идет к такой старухе, чтоб ей пора было получать компенсацию по вкладу. Сядут, сочтут года по пальцам, поговорят про похороны – где, как, в чём и на какие шиши. Вот баба Нюра позавчера получила тысячу – сегодня рожки да ножки. Витёк показывает – пропил. Но участковый сам знает, сколько человек может пропить за сутки, по большому счёту. Витёк кивает на Лёню. Ну, Лёня с ним выпил пополам одну бутылку. Участковый загибает палец. Пузан прослышал, принес огурцей – Витёк его поворотил. Пузан по злобе с утра пораньше побалакал с бабой Нюрой и – на велосипеде в Михаленино, к участковому.
У Лёни неисповедимый ход мыслей. Говорит, глядя в небо – если в деньгах не нашлось, то, может, найдется в бутылках. Поехали в Лубяны – два велосипеда, все четыре колеса. Приехали, заляпанные глиной. В бутылках, правда, нашлось, однако что-то не сходилось. Три дня считали, под конец с Пузаном – он бутылки из погреба доставал, у самих уж сил не стало. Когда запас иссяк, как раз всё сошлось. Вроде как в точку попали. Участковый присудил как припечатал – Витьку носить бабе Нюре безденежно хлеб из Селиванихи в течение года, начиная с сегодняшнего дня. Подсчитать никто не пытался, но, главное, обе стороны остались довольны и с приговором полностью согласны. Так даже лучше вышло. Деньги в избе всё равно не убережешь. Приедет сын из Нижнего – скорее пропьет, да еще как бы не помер. И в кассу теперь класть боязно. Витёк к трехдневному совещанию допущен не был, а только к вынесению окончательного вердикта. Отсиживался в Селиванихе у новой подросшей старухи, лишь недавно заговорившей с хорошо узнаваемой ласковой старушечьей интонацией. Про компенсацию больше спрашивать не приходится, а думать никто не запретит. Что Бог даст, загадывать не след, загад не бывает богат. Участковый взял велосипед за уши и поплелся по шоссе в Михаленино, ни шатко ни валко.
Лёня конопатит рассохшуюся деревянную бадью и покрепче сбивает штурвал, с помощью коего вытягивают её, тяжелую, от далекого водяного пласта на высокое плоскогорье. Видит таинственный вход в подземное темное царство, где водяной считает дневные тусклые звезды. С плеском тяжелым бадья на срез воды опустилась, ворот назад крутанулся, по срубу цепь зашуршала.
Лёня удит – один, на песчаном бугре, близ кусточка ракитова. Снизу видны две деревни. От Фалина стадо бредет, и пьяный пастух кувыркается с бабою в поле. Бердничиха выступает к реке разваленною банькой, за буйно заросшим оврагом. Вблизи заколоченная свиноферма, уже по дороге в Лапшангу. Свиней всех раздали, они верещат по деревням под каждой избою. В Лапшанге остался один племенной боров, по прозвищу Черномордин. Еще год назад шла баба запоздно с фермы, а волк толкнул ее серым бочком, повалил и, не глядя, пошел себе дальше. К Лёне сюда подойти можно совсем незаметно, по зарослям тростника, не только что волку, а здоровенному парню. Но незаметно подходит из-за реки, с пустынных лугов, оголтелая воля, и закрывается длинными волосами, и вроде поет, или ветер шумит, и вброд переходит без платья. Ушла и пропала, и только венок на сосне висит, где кончается тропка.
Деревни пустуют. В рушащиеся избы страшно войти. Смелые москвички-опрощенки лазят по чердакам за ткацкими станками, их собирают и ткут, и старух-комсомолочек учат. Wir weben, wir weben. Бывает, одна какая изба и сгорит, по пьяному делу. Ну, самое большее две. В какие-то годы всех, кто не упирался, переселяли на центральную усадьбу в Михаленино. Там, при впадении Лапшанги в Ветлугу, рейд, кой-какие судёнышки. Крайние дома на таком стоят угоре, что после дождя старому человеку нипочем не влезть, хоть держись за хвост кобылы, а кобылы-то нету. Как покойный дед Меркурий крышу перекрывал, одному Богу известно. С его избы в ветреную погоду всё железо улетает, и никто никогда еще его не находил. Угор – это угор, а усад – это огород. Земли – завались, лишь стало бы силушки. Усады у кого где, иной раз возле старой избы, сгоревшей или повалившейся – где издавна ухожено. Тетя Катя идет с огурцами в переднике – так пёс подол оборвал. Чей пёс-то? А пёс его знает. Адамыч каторжный выбежал с ружьем – пёс уж обернулся вороном и во-она где. Какой я пёс – я ворон! А тетя Катя кружит в исподнем подле чужой избы и голосит.
Читать дальше