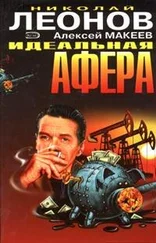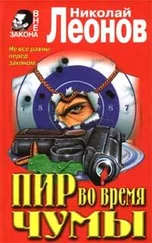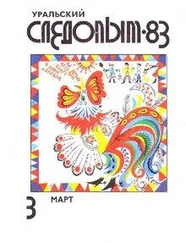Руки Августы двигались легко и сноровисто, как в тот вечер над заваленным камбалой столом. Осторожно ступая, Кочелабов подошел к коляске. Что-то там посверкивало из пеленок, что-то пузырилось, скукоженное гримасой, а общего выражения, какой-то хотя бы отдаленной похожести на Августу не было и в помине.
– Надо же… – только и произнес он.
– Сам-то, думаешь, красивей был? – вскинулась Августа.
– Да я разве что… По мне все младенцы на одно лицо.
Извинившись, Августа присела кормить грудью сына, и Кочелабов вовсе затосковал. Уйти так вот, вдруг, было неудобно. А разглядывать выцветшие цветы на обоях – сколько же можно… Бутылку он уже втиснул обратно в карман, и тяжесть ее наводила на бренные раздумья о том, с кем же распить ее сегодня.
Он вздрогнул и замер от одного лишь слова, сказанного с такой щемящей нежностью, какая жила в нем смутно вместе с привкусом материнского молока:
– Ми-илый… милый мой, – распевно повторяла Августа. И, не глядя в ту сторону, легко было представить, каким мягким внутренним светом озарено ее лицо. Не торопись, голубчик, не спеши…
До той минуты и представить не мог Кочелабов, чтобы обыкновенные, сказанные ребенку слова, даже не сами слова, а выдохнутая с ними нежность, могли пробудить в нем острый, чувственный интерес. Он сидел, не меняя согбенной позы, и сожаление о чем-то несбывшемся, почти похороненном в сомнениях и растратах, вдруг туго сдавило его за горло.
– Ми-илый мой, ну нельзя же так зубками, маме больно, Егорушка.
Кочелабов встал, громыхнув табуреткой, приметив краем глаза, как Августа испуганно заслонила ладонью крутую, оттянутую книзу грудь, и только у двери вроде как извинился:
– Ты меня это… Я пойду.
– Вот дурной.
На следующий день Кочелабов снова очутился возле того самого, крепко сбитого из кедрача дома. Пришел с ирисками и печеньем, с беспечной, слегка виноватой улыбкой и непонятным смятением в душе, словно собирался не в гости, как убеждал он себя, а спешил на свидание.
Толкнулся в дверь – заперто, сучек еловый в щеколде вместо замка. Так и побрел обратно, с ирисками и печеньем, со смятением своим и никому не нужной беспечностью.
Давно уже не интересовала Кочелабова похилившаяся усадьба деда Гурова. И сейчас шел он мимо, с надеждой вглядываясь в даль улицы, как вдруг за разросшимися кустами смородины царапнуло взгляд что-то чуждое, броское… Детская коляска. Это с каких же пор младенец у Гурова?.. Кеша привстал на цыпочки и разглядел за листвой снующую над корытом округлую спину Августы.
– Эй, здорово! Ты чего тут?! – позабыв про младенца, обрадовано гаркнул он и осекся под сердитым взглядом Августы, с подчеркнутой осторожностью открыл калитку.
Босоногая, обласканная солнцем, в тонком ситцевом платье удивительно похожа была Августа на ту забытую Кочелабовым девчонку. Только б удочку в руки – и айда опять на реку на весь день. А она стояла, отжимая с кистей рук хлопья пены, и затасканное мужское исподнее белье топорщилось перед ней из корыта.
– Ишь как… – растерянно сказал Кеша, обращаясь скорее к себе, чем к Августе.
– Вот деду Гурову, понимаешь…
– Понимаю. Подработать что ли решила?
– Что ты? Какие с него деньги! Так я… Ну просто так, по-соседски.
Он кивнул, вроде бы успокоенный этим ответом, но про себя отметил, что не рядом живет Августа – за четыре дома отсюда.
– А я к тебе собрался, – сказал Кеша, пристраивая кульки возле детской коляски. Больно чай у тебя хорош.
– То-то стриганул вчера зайцем. Я так и решила – чаю перепил.
– Перепил, – с легкостью согласился Кочелабов. Ну да ладно, ты это… Ириски тут да печенье.
– Вот здорово! Дедуля как раз ириски любит.
Кочелабов вскинул голову: уж не смеется ли над ним Августа в отместку за вчерашнее. Но радостны и не замутнены обидой были ее глаза.
Чай они пили втроем. Дед Гуров еще не оправился после приступа радикулита и теперь полусидел-полулежал, облокотившись на низкий подоконник, посверкивая на молодых из-под курчавых черных бровей.
Неуютно чувствовал себя Кочелабов под этими взглядами за выскобленным до глянцевой желтизны столом. Чашку держал чинно и твердо на растопыренных пальцах, чаем не швыркал, а отхлебывал его маленькими глотками, и, оглядывая стены, обклеенные репродукциями картин и фотографий, корил себя за малодушие: зачем согласился на этот чай.
Дед Гуров не столько увлекался сладким, сколько нахваливал Августу: какая она добрая да пригожая, хозяйственная да внимательная к нему, старику. И хоть Августа сердилась совсем непритворно и даже грозила оставить белье нестиранным, если дед не прекратит свое славословие, он только хитровато подмигивал Кочелабову, как сообщнику, и продолжал гнуть свое. Все это начинало походить на зауряднейшее сватовство.
Читать дальше