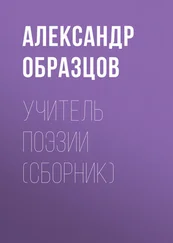Толоконников. В тени холодно, Тереза, но безопасно. Да, вот всё хочу спросить и забываю: откуда у тебя это имя – Тереза?
Тереза. Дурной родительский вкус.
Толоконников. Нет, мне нравится. А то – Маша, Клава, Вера – скучно. Женщина – это праздник.
Гончаров. Интересно, Тереза, как тебя называет твой папа – Тери или Реза?
Тереза. Мой папа, к счастью, меня никак не называет.
Гончаров. Теперь мне надо с удивлением и участием спросить – почему?
Тереза. Мой отец – бич. А чтобы вам было понятнее, поясню, что не бич божий, а просто – бич. Бичи – это те же цыгане. Они ездят по Сибири без имущества, без прописки и пьют. Они уже не помнят ничего и им хорошо.
Толоконников. Хорошо?
Тереза. Хорошо. Мне кажется – хорошо. Ведь они абсолютно свободны. Отец всегда был под каблуком у мамы, и мне было лет четырнадцать, когда он взбунтовался. Он уехал без пальто, в нейлоновой курточке, зимой. И из Красноярска написал совершенно жуткое письмо. Я его прочла. Мне казалось, что я имела на это право. Он назвал маму смертестроительницей. А она детский врач. И еще он написал: «Я сбичуюсь вконец, но не вернусь к тебе, Анна». Стоит ли удивляться после такой фразы, что меня назвали Терезой?
Женя. Я пойду помогу маме, нам немного осталось.
Уходит.
Толоконников. Ну что, молодежь? Торжества задерживаются, может, по маленькой? А? Тереза? Борис?
Достает бутылку коньяка, рюмки.
Гончаров. Я не буду.
Толоконников. Ну вот, начинается. А вы, Георгий?
Рюмкин. Пожалуй.
Толоконников( наливает, смотрит рюмку на свет ). Где я ее только не пил. И знаете, что самое приятное в этом деле?.. Это выпить, когда пить категорически запрещено. А? Мстислав? Хлопнешь?
Мстислав Романович. Я бы выпил. Сухого.
Толоконников. Это я мигом оборудую.
Идет на кухню, возвращается.
Толоконников. Ну как не порадеть родному человечку.
Мстислав Романович. Спасибо.
Толоконников режет яблоко на четыре части, кивает, подняв рюмку. Все пьют.
Толоконников. Вар-рварство. Не можем мы пить. А почему? Нет культуры поведения за столом. В армии кто последний, тот посуду убирает. В столовых ножей нет, мяса жуй, как хочешь. В кафе к вину стаканы подают. Порядки… И все-таки, скажу я вам честно, нравится мне это. Нравится и всё. Как представлю только канитель с ножиками, рюмочками, соусниками, салфетками, с палочками – жуть! Нация мы скороспелая и на промежуточных ступенях долго не задерживаемся. Да, ошибаемся. Да, ломимся иногда в открытую дверь. Но это болезнь роста. Это пройдет. Пройдет, Мстислав?
Мстислав Романович. Я не знаю.
Толоконников. А я знаю. Пройдет. Ну, что это вы приуныли? Борис? Ну?
Гончаров. Мне, видимо, надо сказать – ничего я не приуныл. Я задумался.
Толоконников. Вы, Георгий, в каких войсках, если не секрет?
Рюмкин. Я танкист.
Толоконников. О-о! Так я ж тоже танкист! Интересно. Всегда смотрю передачу по утрам об армии. Ох и сила же, а? А красота! Как на параде. Но смотрите. В тридцать девятом, помню, и полеты на бреющем, и танки сомкнутым строем… Что?
Рюмкин. Как бы вам сказать… Не ушли еще люди, которые всё это помнят, а значит – смотрят, приглядывают.
Толоконников. А уйдут?
Рюмкин. А уйдут – мы будем помнить.
Гончаров. А как вы думаете, Мстислав Романович? Если всех людей без исключения в детстве привязывать к партам и кормить их отборной поэзией и музыкой, станут они жрать друг друга, когда подрастут?
Мстислав Романович. Если привязывать…
Гончаров. По-моему, станут. Что же будем делать? Смотреть, приглядывать за танковыми войсками? Играть по абонементам и писать по подписке? Пора бы уж всё это… решить. Время какое-то… дрожащее. Как марево. А в мареве – то ли шлемы, то ли тюльпаны, то ли тарелки летают…
Толоконников. Вот видите, Георгий, люди искусства наш разговор по-своему видят. Образы у них сразу… рождаются.
Тереза. Нет, Петр Иванович, он хорошо сказал о мареве. Действительно, понятия сейчас как-то размываются, да?
Рюмкин. Понятия не могут размываться. Это представления размываются, представления о предметах и идеях.
Гончаров. Ну вот, и последний штрих. Полотно готово. Коллективный портрет эпохи.
Читать дальше
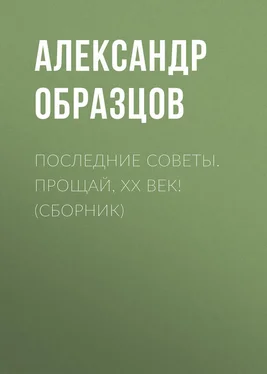
![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/books/90723/aleksandr-solzhenicyn-russkij-vopros-na-rubezhe-veko-thumb.webp)