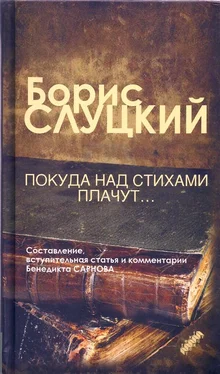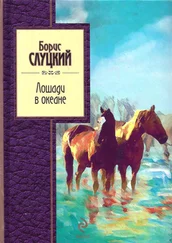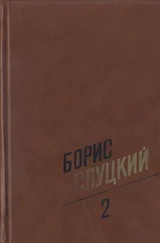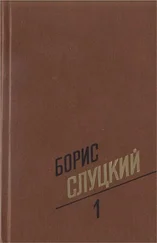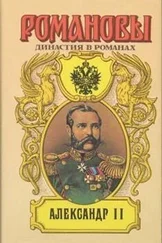Первое отчетливое о нем воспоминание — лето 1936, наверное, года. Я иду через весь город в библиотеку, чтобы прочитать в свежей «Красной нови» «Страну Муравию». Поэма мне не понравилась. Коллективизацию я видел близко. Ее волны омывали харьковский Конный базар, на котором мы жили. В поэме не было ни голода, ни ярости, ни ожесточенности ни в той степени, как в жизни, ни в той степени, как в поэмах Павла Васильева или у Шухова и Шолохова. Не понравилась мне и технология, фактура, изобразительная сторона. Выученикам футуристов и Сельвинского все это, естественно, казалось чересчур простеньким.
Много лет спустя Светлов рассказывал, как в каком-то южном санатории Твардовский попросил его прочитать «Страну Муравию».
— Есть в этом дурной деревенский наив, но блага вы получите неисчислимые.
Светлов был прав — и в оценке, и в пророчестве.
Тем не менее поэма не забывалась, и неприемлемым в ней было что-то новое, не бывшее еще в литературе.
Когда я приехал в Москву, Твардовский гремел в официальных небесах, занимал значительную часть вакуума, образовавшегося после убытия из столицы его талантливых сверстников. Стихи его, иногда печатавшиеся в газетах или той же «Красной нови», не нравились, не интересовали. Худого о нем, однако, слышно не было.
Для кружка моих предвоенных товарищей реальными противниками, которых надо то ли свергать, то ли просто сменить, казались, скорее, Симонов, Долматовский, Матусовский, Алигер. Они были городские, как и мы. Они учились у тех же учителей. Они выучились не тому, что следовало, и писали не так, как следовало.
Твардовский тоже писал не так, как следовало, но он был других корней и другой темы. Он нас почти не касался.
В войну, когда во фронтовой печати начали появляться главы из «Василия Теркина», они сначала удивили своей непохожестью на жизнь. По мелочам, по деталям все было увидено, подмечено, схвачено. Но жестокое и печальное начало войны не выглядело ни жестоким, ни печальным.
В то же время «Василий Теркин» от главы к главе выглядел все талантливее, все звонче. Он нравился солдатам — куда больше, чем любые другие стихи, и солдаты не требовали от него верности жизни. Дела на фронте быстро улучшались, армия становилась все умелее. Пехота, для которой Василий Теркин первых глав казался недостижимым идеалом, подтянулась, и, как ни одно из произведений военной поэзии, «Книга про бойца» способствовала этому подтягиванию. Тип солдата, казавшийся начисто выдуманным, все чаще попадался на глаза и не скрывал своего литературного — от Василия Теркина — происхождения. Редкий случай в истории поэзии и большая заслуга перед военной историей!
Я читал продолжение «Василия Теркина» без раздражения, даже с удовольствием. Это была несомненная поэзия, в отличие от прикладного, утилитарного, полухалтурного Фомы Смыслова. Но только не моя поэзия, хоть и был я в ту пору изрядным эклектиком и нравились мне (как, впрочем, и сейчас) самые различные вещи.
Читал, но не перечитывал, хотя строки «Не зарвемся, так прорвемся» или «Я одну политбеседу повторял: не унывай!» запомнились на всю жизнь.
Первое, что у Твардовского понравилось мне полностью, было «Дом у дороги».
Война кончилась, отменив скидки, допуски на военное положение. Надо было писать о ней всю правду, и, вернувшись с войны, я обнаружил, что у Исаковского во «Враги сожгли родную хату» и у Твардовского в новой поэме эта правда наличествует, а у моих учителей, у Сельвинского, в частности, отсутствует.
Хотя столь полное удовлетворение, как от «Дома у дороги», я от больших вещей Твардовского не испытал впоследствии ни разу, разве что от немногих его лирических стихотворений, хотя в «За далью — даль» он вернулся к своей главной линии — реалистического мифа, современной сказки, тем не менее после «Дома у дороги» стал для меня одним из самых главных современных поэтов.
Надо сказать, что в своем кругу я по этому вопросу был в почти полном одиночестве. Начисто не понимали, не принимали Твардовского Мартынов и Заболоцкий. У Кирсанова и Сельвинского интерес к Твардовскому был, но специальный. Именно его, а не своих официальных оппонентов они считали главным врагом, главной опасностью. Кирсанов сочинил большую статью для «Нового мира», изобиловавшую, как говорят, и политическими обвинениями. Будучи назначен редактором этого журнала, Твардовский обнаружил кирсановскую статью и с краткой сопроводиловкой вернул ее автору.
Об эсеровщине, мужиковствовании Твардовского с бешенством говорил мне Сельвинский.
Читать дальше