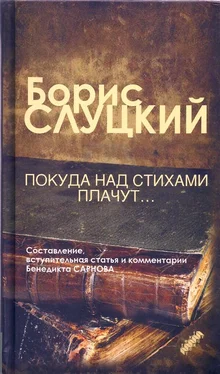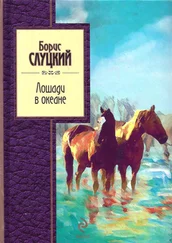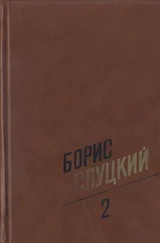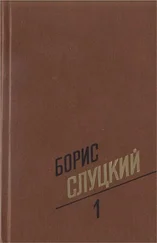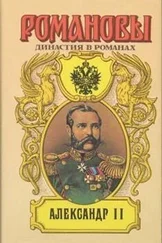Чтобы с черного хода
их пустили в печать,
мне за правдой охоту
поручили начать.
Чтоб дорога прямая
привела их к рублю,
я им руки ломаю,
я им ноги рублю…
Дело, конечно, было не в рубле: рубль тут был ни при чем. Слуцкому позарез было нужно тогда, чтобы его стихи наконец «пустили в печать». И не было никакого другого способа этого добиться.
Моя жена была, конечно, не первой — и не единственной, — у кого вырвалось это «Как вы можете!». И всем он уже тогда мог бы ответить так, как ответил потом этими — в то время еще не написанными — стихами:
Выдаю с головою,
лакирую и лгу…
Все же кое-что скрою,
кое-что сберегу.
Самых сильных и бравых
никому не отдам.
Я еще без поправок
эту книгу издам.
Так оно в конечном счете и случилось.
А недавно (в 2006-м) в издательстве «Время» вышел его однотомник, который так прямо и называется: «Без поправок».
* * *
Гордое это название, к сожалению, не вполне отражает реальность. Без поправок не обошлось даже и тут, в посмертной книге поэта, уже в теперешние наши свободные, бесцензурные времена.
Особенно ясно это видно на примере такого стихотворения:
Стих встает, как солдат.
Нет. Он — как политрук,
что обязан возглавить бросок,
отрывая от двух обмороженных рук
Землю (всю), глину (всю), весь песок.
Стих встает, а слова, как солдаты, лежат,
как славяне и как елдаши.
Вспоминают про избы, про жен, про лошат.
Он-то встал, а кругом ни души.
И тогда политрук — впрочем, что же я вам
говорю, — стих — хватает наган,
бьет слова рукояткою по головам,
сапогом бьет слова по ногам.
И слова из словесных окопов встают,
выползают из-под словаря,
и бегут за стихом, и при этом — поют,
мироздание все матеря.
И, хватаясь (зачеркнутые) за живот,
умирают, смирны и тихи.
Вот как роту в атаку подъемлют, и вот
как слагают стихи.
Таков авторский, бесцензурный вариант стихотворения. А в книге вторая строфа выглядит так:
Стих встает, а слова, как солдаты, лежат.
Стих встает, а кругом — ни души.
Вспоминают про избы, про жен, про ребят.
Подними их, развороши!
Исчезли «славяне» и «елдаши». Исчезла едва ли не самая сильная в этом четверостишии строка:
Он-то встал, а кругом — ни души.
Вместо живого — и такого выразительного — «про лошат», появилось безликое — «про ребят».
В предпоследнем четверостишии исчезла строка:
Вместо нее тоже появилась вполне безликая:
И бегут все скорей и скорей…
Все это, конечно, случилось не по злому умыслу, а по недоразумению. Просто составитель нового тома доверился какому-то более раннему изданию, не сравнив его с авторским текстом, опубликованным в 1982 году в журнале «Вопросы литературы» (№ 7. С. 264–269).
Так обстоит дело со всеми посмертными изданиями стихов Бориса Слуцкого. Исключением из этого печального правила не стало и самое полное из них — трехтомник, составленный подвижническим трудом Юрия Болдырева. Достаточно сказать, что стихотворение «Сон» («Утро брезжит, а дождик брызжет…») напечатано там с двумя концовочными строфами. Одной — первоначальной, авторской («Потому что так пелось с детства…») и другой — искусственно автором к стихотворению присобаченной («Привокзальный Ленин мне снится…»).
Составитель трехтомника, восстановив пропавшую, в свое время вычеркнутую поэтом строфу, не догадался удалить из него ту, которая была сочинена ей в замену, чтобы стихи эти «с черного хода пустили в печать».
Ну а в прижизненных книгах Бориса таких невыправленных поправок осталась тьма. Калечить, уродовать свои стихи ему приходилось и тогда, когда он был уже известным, признанным, широко печатавшимся поэтом, автором полутора десятков вышедших в свет сборников.
Вот как он сам сказал об этом:
Критики меня критиковали,
редактировали редактора,
кривотолковали, толковали
с помощью резинки и пера.
С помощью большого, красно-синего,
толстобокого карандаша.
А стиха легчайшая душа
не выносит подчеркиванья сильного.
Дым поэзии, дым-дымок
незаметно тает,
легок стих, я уловить не мог,
как он отлетает.
Так, вероятно, тоже бывало. Но как правило, он легко улавливал и даже хорошо знал, где, как и почему отлетел от стихотворения этот «дым-дымок» таящейся в нем поэзии:
Читать дальше