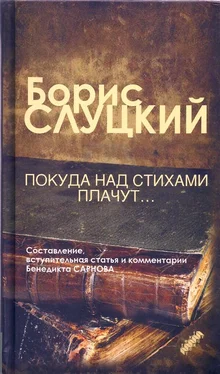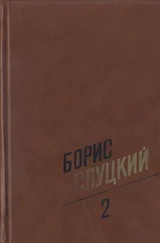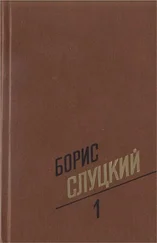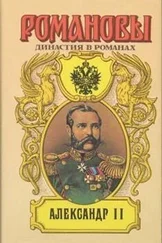Но самое большое мое возмущение вызвала последняя, концовочная, финальная строфа этого стихотворения Бориса — его, так сказать, смысловой и эмоциональный итог:
Задрав башку и тщетно силясь
запомнить каждый новый вид,
стоит хозяин и кормилец,
на дело рук своих глядит.
Тут мой спор с ним достиг самого высокого накала.
Собственно, никакого спора не было. Говорил я один. Борис молчал.
— Вы только подумайте, что вы написали! — горячился я. — Вот эти плохо одетые, замордованные, затраханные чудовищным нашим государством-Левиафаном люди, — это они-то хозяева? А те, что разъезжают в казенных автомобилях, жируют в своих государственных кабинетах, — они, значит, слуги народа? Да? Вы это хотели сказать?
Когда я исчерпал все свои доводы и напоследок обвинил его в том, что он повторяет зады самой подлой официальной пропагандистской лжи, он произнес в ответ одну только фразу:
— Ладно. Поглядим.
Тем самым он довольно ясно дал мне понять, что еще не вечер. Придет, мол, время, и истинный хозяин еще скажет свое слово.
Намек я понял. И хоть остался при своем, поверил, что он, во всяком случае, не врет, — на самом деле верит, что сказанное им в этом стихотворении — правда.
Но главный скандал разразился, после того как он прочел мне (тоже только что написанное) стихотворение про Зою. Про то, как она крикнула с эшафота: «Сталин придет!»
Завершали стихотворение такие строки:
О Сталине я в жизни думал разное,
Еще не скоро подобью итог…
И далее следовало мутноватое рассуждение насчет того, что, как бы там ни было, а это тоже было и эту страницу тоже, мол, не вычеркнуть из истории и из нашей жизни.
— Как вы могли! — опять кипятился я. — Да как у вас рука поднялась! Как язык повернулся!
— А вы что же, не верите, что так было? — кажется, с искренним интересом спросил он. (Мне показалось, что он и сам не слишком в это верит.)
— Да хоть бы и было! — ответил я. — Если даже и было, ведь это же ужасно, что чистая, самоотверженная девочка умерла с именем палача и убийцы на устах!
Когда я откричался, он — довольно спокойно — разъяснил:
— У меня около сотни стихов о Сталине. Пусть среди них будет и такое…
* * *
Но самый большой скандал разразился по поводу таких его строк:
Художники рисуют Ленина,
как раньше рисовали Сталина.
А Сталина теперь не велено:
на Сталина все беды свалены.
Их столько, бед, такое множество!
Такого качества, количества!
Он был не злобное ничтожество,
скорей — жестокое величество.
Сейчас, когда я отыскал в его трехтомнике это стихотворение, запомнившееся мне только первым четверостишием да последними двумя строчками («Уволенная и отставленная, / Лежит в подвале слава Сталина»), меня особенно покоробило в нем слово «величество» (не само слово даже, а интонация, с какой оно было произнесено: что бы, мол, вы там ни говорили…).
Но тогда возмутило меня совсем другое.
— Ах, вот как! — иронизировал я. — Свалены, значит? А сам он, бедный, выходит, ни в чем не виноват?
В этом слове («свалены», как мне запомнилось, или «взвалены», как теперь напечатано) мне померещилось стремление Бориса выгородить Сталина, защитить его от «несправедливых» нападок.
Хотя в основе чувства, вызвавшего к жизни эти стихи, вероятно, лежало более глубокое, чем мое, осознание той простой истины, что главной причиной наших бед был не Сталин, а порожденная — конечно, им, Сталиным, но не только им — система.
* * *
Из аргументов тех, кого раздражила и даже возмутила коржавинская эпиграмма, особенно часто мне приходилось слышать такой:
— Что значит — «комиссарил»? Ведь он же не фальшивил! Не лгал! Был искренен.
Да, пожалуй. Но это была искренность особого рода.
Это такая была у него установка .
* * *
Однажды зашла у нас речь о молодых Евтушенко и Вознесенском. Я нападал на них, Слуцкий их защищал. Как и всегда в наших разговорах, каждый остался при своем. Но в заключение Борис довольно жестко подвел итог:
— Все дело в том, что вам не нравится двадцатый век. Вам не нравятся его вожди, вам не нравится его поэты…
Я сказал, что с поэтами дело обстоит сложнее, но вожди действительно не нравятся.
Ему они, конечно, тогда тоже уже не нравились. И я это прекрасно понимал: ведь только что им были прочитаны «Бог» и «Хозяин». Но, распаленный его невозмутимостью, я стал кидаться уже и на «Хозяина», и на «Бога». Сказал, что, в отличие от него, своим хозяином Сталина никогда не считал, портретов его нигде не вешал, да и как Бога тоже его никогда не воспринимал.
Читать дальше