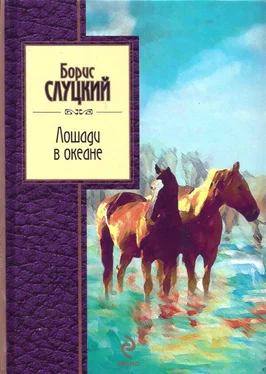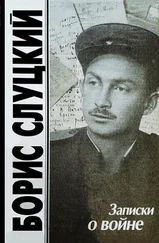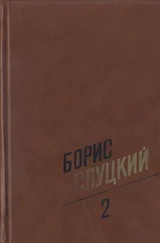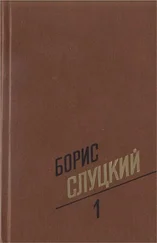Изучение иностранного
языка повторяется заново
в поколении каждом, любом
Недостигнутое в деде
не успели достичь и дети.
Перелистываю альбом,
где четыре уже поколения
и спряжения и склонения
изучали спустя рукава.
О веселые лица детские,
изучавшие тексты немецкие,
но — слегка. И едва-едва.
О, мистическое невезение!
Лингвистическое угрызение
совести
не давало плодов.
Только мы уходили из школы,
грамматические глаголы
заглушал глагол городов.
Говорят, что в последние годы
языку вышли важные льготы.
Впрочем, если придется орать,
знаменитому «хандыхоху»
можно вмиг обучить неплохо
нашу разноплеменную рать.
Заработал своими боками,
как билет проездной оплатил.
Это образа набуханье —
этот грузно звучащий мотив.
О автобус, связующий загород
с городом, с пригородом, верней.
Сотню раз я им пользуюсь за год,
езжу сотню, не менее, дней.
Крепнет стоицизм у стоящих,
у влезающих — волюнтаризм.
Ты не то мешок, не то ящик.
Не предвидел тебя футуризм.
Не предвидел зажатых и сдавленных,
сжатых в многочленный комок,
штабелем бесконечным поставленных
пассажиров. Предвидеть не смог.
Не предвидел морали и этики,
выжатых из томящихся тел
в том автобусе, в век кибернетики.
Не предвидел. Не захотел.
О автобус! К свершеньям готовясь,
совершенствуя в подвигах нрав,
проходите, юнцы, сквозь автобус.
Вы поймете, насколько я прав.
Душегубка его, костоломка,
запорожская шумная сечь
вас научит усердно и ловко
жизнь навылет,
насквозь
пересечь.
Распадаются тесные связи,
упраздняются совесть и честь
и пытаются грязи в князи
и в светлейшие князи пролезть.
Это время — распада. Эпоха —
разложения. Этот век
начал плохо и кончит плохо.
Позабудет, где низ, где верх.
Тем не менее в сутках по-прежнему
ровно двадцать четыре часа
и над старой землею по-прежнему
те же самые небеса.
И по-прежнему солнце восходит
и посеянное зерно
точно так же усердно всходит,
как всходило давным-давно.
И особенно наглые речи,
прославляющие круговерть,
резко, так же, как прежде, и резче
обрывает внезапная смерть.
Превосходно прошло проверку
все на свете: слова и дела,
и понятья низа и верха,
и понятья добра и зла.
Народ, прочитавший Льва Толстого
или хотя б посмотревший в кино,
не напоминает святого, простого
народа,
описанного Толстым давно.
Народ изменился. Толстой в удивлении
глядит на него из того удаления,
куда его смерть давно загнала.
Здесь все иное: слова, дела.
Толстой то нахмурится, то улыбнется
то дивно, то занятно ему.
Но он замечает, что тополь гнется
по-старому, по-прежнему.
А солнце и всходит и заходит,
покуда мы молчим и кричим.
Обдумав все это,
Толстой находит,
что для беспокойства нет причин.
«В раннем средневековье…»
Не будем терять отчаяния.
А. Ахматова
В раннем средневековье
до позднего далеко.
Еще проржавеют оковы.
Их будет таскать легко.
И будет дано понять нам,
в котором веке живем:
в десятом или девятом,
восьмом или только в седьмом.
Пока же мы все забыли,
не знаем, куда забрели:
часы ни разу не били,
еще их не изобрели.
Пока доедаем консервы,
огромный античный запас,
зато железные нервы,
стальные нервы у нас.
С начала и до окончания
суровая тянется нить.
Не будем терять отчаяния,
а будем его хранить.
Века, действительно, средние,
но доля не так тяжка,
не первые, не последние,
а средние все же века.
Это не беда.
А что беда?
Новостей не будет. Никогда.
И плохих не будет?
И плохих.
Никогда не будет. Никаких.
Я был плохой приметой,
я был травой примятой,
я белой был вороной,
я воблой был вареной.
Я был кольцом на пне,
я был лицом в окне
на сотом этаже…
Всем этим был уже.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу