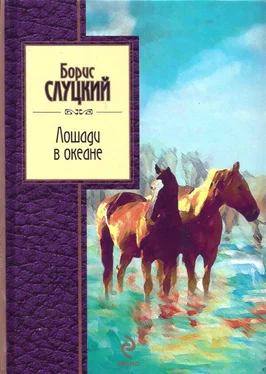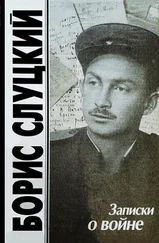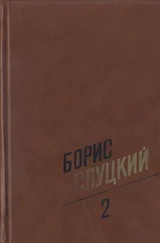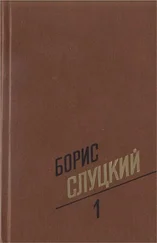Ангел мой, предохранитель!
Демон мой, ограничитель!
Стыд — гонитель и ревнитель,
и мучитель, и учитель.
То, что враг тебе простит,
не запамятует стыд.
То, что память забывает,
не запамятует срам.
С ним такого не бывает,
точно говорю я вам.
Сколько раз хватал за фалды!
Сколько раз глодал стозевно!
Сколько раз мне помешал ты —
столько кланяюсь я земно!
Я стыду-богатырю,
сильному, красивому,
говорю: благодарю.
Говорю: спасибо!
Словно бы наружной совестью,
от которой спасу нет,
я горжусь своей способностью
покраснеть как маков цвет.
Когда отвалили плиту —
смотрели в холодную бездну —
в бескрайнюю пустоту —
внимательно и бесполезно.
Была пустота та пуста.
Без дна была бездна, без края,
и бездна открылась вторая
в том месте, где кончилась та.
Так что ж, ничего? Ни черта.
Так что ж? Никого? Никого —
ни лиц, ни легенд, ни событий.
А было ведь столько всего:
надежд, упований, наитий.
И вот — никого. Ничего.
Так ставьте скорее гранит,
и бездну скорей прикрывайте,
и тщательнее скрывайте
тот нуль, что бескрайность хранит.
Долголетье исправит
все грехи лихолетья.
И Ахматову славят,
кто стегал ее плетью.
Все случится и выйдет,
если небо поможет.
Долгожитель увидит
то, что житель не сможет.
Не для двадцатилетних,
не для юных и вздорных
этот мир, а для древних,
для эпохоупорных,
для здоровье блюдущих,
некурящих, непьющих,
только в ногу идущих,
только в урны плюющих.
Молчащие. Их много. Большинство.
Почти все человечество — молчащие.
Мы — громкие, шумливые, кричащие,
не можем не учитывать его.
О чем кричим — того мы не скрываем.
О чем,
о чем,
о чем молчат они?
Покуда мы проносимся трамваем,
как улица молчащая они.
Мы — выяснились,
с нами — все понятно.
Покуда мы проносимся туда,
покуда возвращаемся обратно,
они не раскрывают даже рта.
Покуда жалобы по проводам идут
так, что столбы от напряженья гнутся,
они чего-то ждут. Или не ждут.
Порою несколько минут
прислушиваются.
Но не улыбнутся.
Довертелась земля до ручки,
докрутилась до кнопки земля.
Как нажмут — превратятся в тучки
океаны
и в пыль — поля.
Вижу, вижу, чувствую контуры
этой самой, секретной комнаты.
Вижу кнопку. Вижу щит.
У щита человек сидит.
Офицер невысокого звания —
капитанский как будто чин,
и техническое образование
он, конечно, не получил.
Дома ждут его, не дождутся.
Дома вежливо молят мадонн,
чтоб скорей отбывалось дежурство,
и готовят пирамидон.
Довертелась земля до ручки,
докрутилась до рычага.
Как нажмут — превратится в тучки.
А до ручки — четыре шага.
Ходит ночь напролет у кнопки.
Подойдет. Поглядит. Отойдет.
Станет зябко ему и знобко…
И опять всю ночь напролет.
Бледно-синий от нервной трясучки,
голубой от тихой тоски,
сдаст по описи кнопки и ручки
и поедет домой на такси.
А рассвет, услыхавший несмело,
что он может еще рассветать,
торопливо возьмется за дело.
Птички робко начнут щебетать,
набухшая почка треснет,
на крылечке скрипнет доска,
и жена его перекрестит
на пороге его домка.
«Будущее, будь каким ни будешь…»
Будущее, будь каким ни будешь!
Будь каким ни будешь, только будь.
Вдруг запамятуешь нас, забудешь.
Не оставь, не брось, не позабудь.
Мы такое видели. Такое
пережили в поле и степи!
Даже и без воли и покоя
будь каким ни будешь! Наступи!
Приходи в пожарах и ознобах,
в гладе, в зное, в холоде любом,
только б не открылся конкурс кнопок,
матч разрывов, состязанье бомб.
Дай работу нашей слабосилке,
жизнь продли. И — нашу. И — врагам.
Если умирать, так пусть носилки
унесут. Не просто ураган.
Начинается повесть про совесть.
Это очень старый рассказ.
Временами едва высовываясь,
совесть глухо упрятана в нас.
Погруженная в наши глубины,
контролирует все бытие.
Что-то вроде гемоглобина.
Трудно с ней, нельзя без нее.
Заглушаем ее алкоголем,
тешем, пилим, рубим и колем,
но она на распил, на распыл,
на разлом, на разрыв испытана,
брита, стрижена, бита, пытана,
все равно не утратила пыл.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу