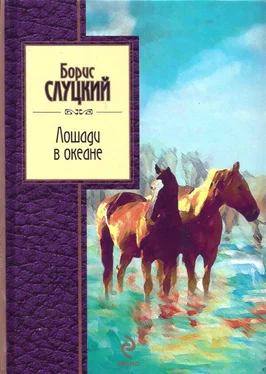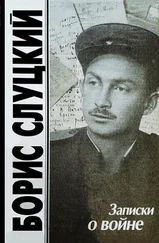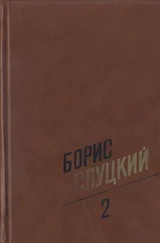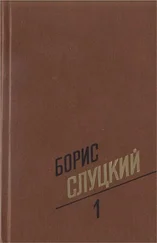Когда война скатилась, как волна,
с людей и души вышли из-под пены,
когда почувствовали постепенно,
что нынче мир, иные времена,
тогда пришла любовь к войскам,
к тем армиям, что в Австрию вступили,
и кровью прилила ко всем вискам,
и комом к горлу подступила.
И письма шли в глубокий тыл,
где знак вопроса гнулся и кружился,
как часовой, в снегах сомненья стыл,
знак восклицанья клялся и божился.
Покуда же послание летело
на крыльях медленных, тяжелых от войны,
вблизи искали для души и тела.
Все были поголовно влюблены.
Надев захваченные в плен убранства
и натянув трофейные чулки,
вдруг выделились из фронтового братства
все девушки, прозрачны и легки.
Мгновенная, военная любовь
от смерти и до смерти без подробности
приобрела изящества, и дробности,
терзания, и длительность и боль.
За неиспользованием фронт вернул
тела и души молодым и сильным
и перспективы жизни развернул
в лесу зеленом и под небом синим,
А я когда еще увижу дом?
Когда отпустят, демобилизуют?
А ветры юности свирепо дуют,
смиряются с большим трудом.
Мне двадцать пять, и молод я опять:
четыре года зрелости промчались,
и я из взрослости вернулся вспять.
Я снова молод. Я опять в начале.
Я вновь недоучившийся студент
и вновь поэт с одним стихом печатным,
и китель, что на мне еще надет,
сидит каким-то армяком печальным.
Я денег на полгода накопил
и опыт на полвека сэкономил.
Был на пиру. И мед и пиво пил.
Теперь со словом надо выйти новым.
И вот, пока распахивает ритм
всю залежь, что на душевом наделе,
я слышу, как товарищ говорит:
— Вернусь домой —
женюсь через неделю.
«Как залпы оббивают небо…»
Как залпы оббивают небо,
так водка обжигает нёбо,
а звезды сыплются из глаз,
как будто падают из тучи,
а гром, гремучий и летучий,
звучит по-матерну меж нас.
Ревет на пианоле полька.
Идет четвертый день попойка.
А почему четвертый день?
За каждый трезвый год военный
мы сутки держим кубок пенный.
Вот почему нам пить не лень.
Мы пьем. А немцы — пусть заплатят.
Пускай устроят и наладят
все, что разбито, снесено.
Пусть взорванное строят снова.
Четвертый день без останова
за их труды мы пьем вино.
Еще мы пьем за жен законных,
что ходят в юбочках суконных
старошинельного сукна.
Их мы оденем и обуем
и мировой пожар раздуем,
чтобы на горе всем буржуям
согрелась у огня жена.
За нашу горькую победу
мы пьем с утра и до обеда
и снова — до рассвета — пьем.
Она ждала нас, как солдатка,
нам горько, но и ей не сладко.
Ну, выпили?
Ну — спать пойдем…
Когда мы вернулись с войны
Сталин взял бокал вина
(может быть, стаканчик коньяка),
поднял тост — и мысль его должна
сохраниться на века:
за терпенье!
Это был не просто тост
(здравицам уже пришел конец),
выпрямившись во весь рост,
великанам воздавал малец
за терпенье.
Трус хвалил героев не за честь,
а за то, что в них терпенье есть.
Вытерпели вы меня, — сказал
вождь народу. И благодарил.
Это молча слушал пьяных зал.
Ничего не говорил.
Только прокричал: «Ура!»
Вот каковская была пора.
Страстотерпцы выпили за страсть,
выпили и закусили всласть.
«Чужие люди почему-то часто…»
Чужие люди почему-то часто
Рассказывают про свое: про счастье
И про несчастье. Про фронт и про любовь.
Я так привык все это слышать, слышать!
Я так устал, что я кричу: — Потише! —
При автобиографии любой.
Все это было. Было и прошло.
Так почему ж быльем не порастает?
Так почему ж гудит и не смолкает?
И пишет мной!
Какое ремесло
У человековеда, у поэта,
У следователя, у политрука!
Я — ухо мира! Я — его рука!
Он мне диктует. Ночью до рассвета
Я не пишу — записываю. Я
Не сочиняю — излагаю были,
А опытность досрочная моя
Твердит уныло: это было, было…
Душа людская — это содержимое
Солдатского кармана, где всегда
Одно и то же: письмецо (любимая!),
Тридцатка (деньги!) и труха-руда —
Пыль неопределенного состава.
Табак? Песок? Крошеный рафинад?
Вы, кажется, не верите? Но, право,
Поройтесь же в карманах у солдат!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу