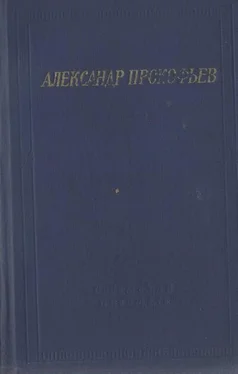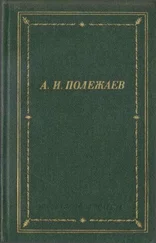…Они как молния из глаз!..
И в свете этих внезапно сверкнувших молний ему с особенной ясностью видится все то, что несет нам поэзия, безмерно обогащающая наш внутренний мир, а потому и равная чуду — что бы ни говорили на сей счет иные скептики и маловеры.
Поэт обращался к творчеству на том накале и подъеме чувств и страстей, без какого, полагал он, лирике чего-то самого нужного и необходимого может и не хватить, или, как утверждал он:
Ты сам гори, и выйдет чудо,
Коль нету чуда — не стихи!
(«Люблю, коль день работой начат…»)
В этом его утверждении — не отклик на случайное и преходящее настроение, а то убеждение, какое поэт отстаивал годами и десятилетиями, выступая против «школы равнодушных» (говоря словами Николая Тихонова). Это во многом определяет и полемический накал его творчества, чуждого полутонам и полупризнаниям, какой бы то ни было уклончивости или недоговоренности.
Уж если поэт и начинал разговор в стихах — и о стихах, — то со всею присущей ему откровенностью, пристрастностью, требовательностью, — а иначе, полагал он, и заводить такой разговор ни к чему! А поводов для полемики в 50–60-х годах у поэта было немало.
Положение на фронте современной литературы являлось сложным, а во многом и противоречивым. Здесь — наряду с произведениями значительными и подлинно реалистическими — публиковалось немало и таких, какие меньше всего отвечали большим задачам, стоящим перед нашей литературой. Иные критики ставили под сомнение самые ее основы, испытанные и проверенные целыми десятилетиями, метод социалистического реализма, стремились ограничить художника областью сугубо личных переживаний и преходящих настроений, никак не связанных с гражданским началом, с чем А. Прокофьев никак не мог примириться и выступал против подобных воззрений и концепций со всею присущей ему решительностью. Утверждая, что в стороне от современной действительности не может остаться ни один художник, поэт с горечью замечал:
Нам кое-что простит эпоха,
Отлюбит с нами, отгрустит.
Но что Россию знаем плохо,
То уж наверно не простит!
(«На темы самокритики»)
Не мог простить этого и сам Прокофьев, видевший, что иные поэты — и не без влияния критики и эстетики — всецело погружены в область своих сугубо личных переживаний и настроений, ограничиваются ими, не стремятся к основательному постижению современности и деятельному участию в ней — и тем самым обедняют свое творчество, лишают его подлинной глубины и значительности.
Поэт решительно выступал против стиха внутренне неорганизованного, «расхристанного», претендующего на некую смелость, но отвечающего лишь некоторым броским признакам новизны и преходящей моды, в чем бы они ни заключались! Он с иронией говорил:
Стихов подобных горы сложены.
Они-де модны, эти горы,
О них повсюду разговоры…
(«Хромает стих, строка ломается…»)
А. Прокофьев настойчиво спорил и с теми, кто пытался свести новаторство к самодовлеющему формотворчеству, к внешним приемам и броским эффектам; поэт не без усмешки обращался в адрес таких стихотворцев:
Поразбивали строчки лесенкой
И удивляют белый свет,
А нет ни песни и ни песенки,
Простого даже ладу нет!..
Конечно, сам-то А. Прокофьев не против «лесенки», так же как и других новых форм стиха (присущих и его творчеству), если они внутренне оправданы и необходимы, продиктованы внутренним развитием затронутой темы.
Но если иные «новаторы» в оправдание своих сугубо формальных новаций ссылались на Маяковского, весьма поверхностно осмысляя самое существо и дерзкую новизну его стиха, то поэт настойчиво напоминал им:
Ужель того не знают птенчики,
Что он планетой завладел?
Они к читателю с бубенчиком,
А он что колокол гремел.
(«Поразбивали строчки лесенкой…»)
Здесь поэт подчеркивает в стихах Маяковского тот гражданский пафос и самоотверженный труд, какого явно не хватает в произведениях тех, кто склонны считать себя самыми верными его последователями и наследниками.
С особой настойчивостью оспаривал поэт невнимательное, а зачастую и пренебрежительное отношение к великим традициям нашего искусства, а Прокофьев не мыслил без них и его дальнейшего развития. Здесь он спорил со своими оппонентами со всею присущей ему страстностью и даже ожесточенностью, отстаивая не только наследие классиков прошлого, Блока, Маяковского, Есенина, но и те клады и заветы народного творчества, какие кое-кому казались уже устаревшими и отжившими, а для него они оставались навсегда живыми и неистощимо плодотворными.
Читать дальше