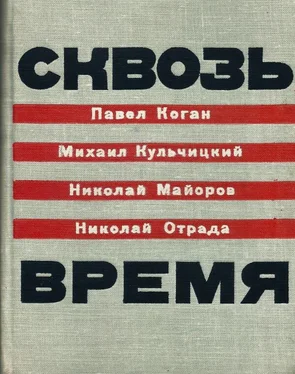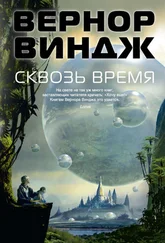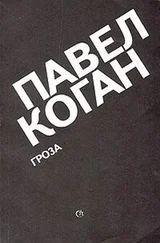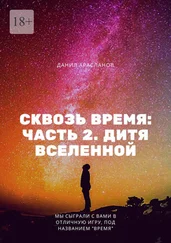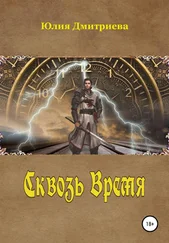Павка пытался уйти добровольцем еще на финскую войну, но студентов старших курсов, как правило, не брали. Ему отказали. Как и все ифлийцы, Павел тяжело переживал гибель на финском фронте Миши Молочко, Жоры Стружко и других наших товарищей. Их смерть потрясла нас. Мы стали намного старше. Мысленно мы уже примеряли шинели…
Мы стояли в кассе Большого театра. И вдруг, оттесняя нас к окошку, прошла группа толстых, нагловатых господ в шляпах.
— Кто это? — спросил я Павку.
— Немцы…
Был подписан договор о ненападении с Германией. Честно говоря, мы не совсем хорошо разбирались тогда в очень сложной международной обстановке, в целях этого договора.
Мы знали: война идет к нам, Гитлер готовится напасть на нас. Фашизм поднимался коричневым ядовитым облаком над Европой.
Весной 1941 года шли грозовые дожди. Стоим во дворе ИФЛИ. Зашел разговор о войне. Прищурившись на солнце, Павка как-то просто и тихо сказал:
— Я с нее не вернусь, с проклятой, потому что полезу в самую бучу. Такой у меня характер.
Так и случилось. И в одной из братских могил на сопке Сахарная голова, под Новороссийском, вечным сном спит большой поэт и чудесный юноша Павел Коган, погибший на той, как нам казалось, последней войне. Последней ли?..
Перед отъездом из Москвы я с ним говорил по телефону, кажется в августе 1941 года. Павка сказал, что едет в Куйбышев. Договорились встретиться. Но встретиться в те тяжкие дни двум военным курсантам было делом нелегким…
* * *
Каждый раз, когда я иду или еду по Ленинградскому проспекту, я вспоминаю Павку, его глуховатый, ласковый голос, его чудесную улыбку, его умные, немного грустные глаза.
Никогда мы не простим тем, кто его убил. Никогда не забудем тебя, ты слышишь, Павка!
Давид Самойлов
Поколение сорокового года
Лет двадцать с лишком назад, до войны (а теперь уже можно писать — в конце тридцатых годов), по Москве ходило множество молодых поэтов. Впрочем, и сейчас, наверное, молодых поэтов в Москве не меньше, просто я не всех знаю, а тогда знал всех.
Поэты были в Литинституте, в ИФЛИ, в университете, были в педагогическом и юридическом. Лет им было от 18 до 20, мало кто из них успел напечататься, но нельзя сказать, что никто их не знал. Во-первых, они хорошо знали друг друга и жили не розно. Во-вторых, их знали многие сотни московских студентов, аудитория строгая и живая.
В ИФЛИ самым знаменитым поэтом был Павел Коган.
Я познакомился с ним осенью 1938 года на заседании литературного кружка. Нахмурив густые брови, чуть прищурив глаза, он уверенно читал стихи, подчеркивая ритм энергичным движением худой руки, сжатой в кулак. Вскоре мы подружились.
…Поздней осенью 1938 года мы решили показать свои стихи Илье Львовичу Сельвинскому. Позвонили ему. Он пригласил нас к себе. В кабинете на Лаврушинском мы — Павел Коган, Сергей Наровчатов и я — читали стихи, пили чай с сушками и разговаривали до поздней ночи. Илья Львович признал нас поэтами. Помню восторженное настроение, в каком мы вышли на пустынный Лаврушинский и обнялись от избытка чувств. Долго стояли мы, обнявшись, на углу и никак не могли расстаться.
Однажды в крошечной прокуренной насквозь комнатке за кухней — у Павла Когана — мы говорили об учителях. Их оказалось множество — Пушкин, Некрасов, Тютчев, Баратынский, Денис Давыдов, Блок, Маяковский, Хлебников, Багрицкий, Тихонов, Сельвинский. Называли и Байрона, и Шекспира, и Киплинга. Кто-то назвал даже Рембо, хотя он явно ни на кого не влиял. Ради интереса решили провести голосование — каждый должен был вписать десять имен поэтов, наиболее на него повлиявших. Одно из первых мест занял Маяковский. На последнем оказался — Шекспир.
Обилие учителей не означало, что мы были неразборчивы. Если присмотреться к именам, мы были довольно разборчивы. Была жадность к стихам. Павел Коган знал их на память в несметном количестве и любил читать чужие стихи не меньше, чем свои.
Сколько бы ни было у нас учителей, наставником нашим и педагогом был Илья Львович Сельвинский. Немало времени отдал он нам, начинающим московским поэтам.
В ту пору Илья Львович руководил поэтическим семинаром молодых при Гослитиздате. Раза три в месяц на Малый Черкасский приходили молодые поэты почитать и послушать стихи. Кажется, там, на семинаре, мы познакомились с Кульчицким, Слуцким, Лукониным и многими другими ныне известными литераторами.
На литобъединении разбирали стихи по косточкам. Хвалили друг друга редко. Спорили резко, не давая друг другу пощады. Считалось, что это закаляет характер. Обижаться не полагалось.
Читать дальше