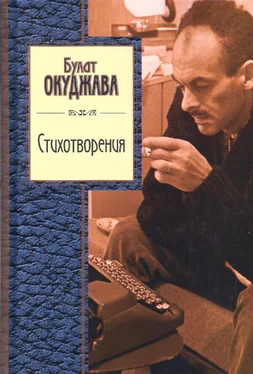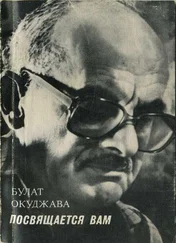Мел осыпается, ставенка стонет.
Двери надеются на визит.
И удивленно качается столик.
И фотокарточка чья-то висит.
И, припорошенный душною пылью,
помня еще о величье своем,
дом шевелит пожелтевшие крылья
старых газет, поселившихся в нем.
Дом предназначен на слом. Значит, кроме
не улыбнется ему ничего.
Что ж мы с тобой позабыли в том доме?
Или не все унесли из него?
Может быть, это ошибка? А если
это ошибка? А если — она?..
Ну-ка гурьбой соберемся в подъезде,
где, замирая, звенит тишина!
Ну-ка, взбежим по ступенькам знакомым!
Ну-ка для успокоенья души
крикнем, как прежде: «Вы дома?.. Вы дома?!..»
Двери распахнуты. И ни души.
Я видел удивительную, красную, огромную луну,
подобную предпраздничному первому помятому блину,
а может быть, подобную ночному комару,
что в свой черед
легко взлетел в простор с лесных болот.
Она над Ленинградом очень медленно плыла.
Так корабли плывут без капитанов медленно…
Но что-то бледное мне виделось сквозь медное
покрытие ее высокого чела.
Под ней покоилось в ночи пространство невское,
и слышалась лишь перекличка площадей пустых…
И что-то женское мне чудилось сквозь резкое
слияние ее бровей густых.
Как будто гаснущий фонарь, она качалась в бездне
синей,
туда-сюда над Петропавловкой скользя…
Но в том ее огне казались мне мои друзья
еще надежней и еще красивей.
Я вслушиваюсь: это их каблуки отчетливо стучат…
и словно невская волна, на миг взметнулось эхо,
когда друзьям я прокричал, что на прощание кричат.
Как будто сам себе я прокричал всё это.
«В саду Нескучном тишина…»
В саду Нескучном тишина,
Встает рассвет светло и строго.
А женщину зовут Дорога…
Какая дальняя она!
«Осень ранняя. Падают листья…»
Осень ранняя. Падают листья.
Осторожно ступайте в траву.
Каждый лист — это мордочка лисья…
Вот земля, на которой живу.
Лисы ссорятся, лисы тоскуют,
лисы празднуют, плачут, поют,
а когда они трубки раскурят,
значит — дождички скоро польют.
По стволам пробегает горенье,
и стволы пропадают во рву.
Каждый ствол — это тело оленье…
Вот земля, на которой живу.
Красный дуб с голубыми рогами
ждет соперника из тишины…
Осторожней: топор под ногами!
А дороги назад сожжены!
…Но в лесу, у соснового входа,
кто-то верит в него наяву…
Ничего не попишешь: природа!
Вот земля, на которой живу.
Закрывают старую пивную.
Новые родятся воробьи.
Скоро-скоро переименуют
улицу
моей любви.
Имечко ей звонкое подыщут,
ласково, должно быть, нарекут,
на табличку светлую подышат,
тряпочкой суконною протрут.
Но останется
в подъездах
тихий заговор моих стихов,
как остались девушки в невестах
после долгих войн, без женихов.
А строитель ничего не знает,
то есть знает, но не признает.
Он топор свой буднично вонзает,
новый вид предметам придает.
Но по-прежнему
и неспроста ведь
мы слетаемся как воробьи —
стоит только снегу стаять —
прямо в улицу своей любви,
где асфальт придуман просто,
голубеет, как январский наст,
где воспоминанья, словно просо,
соблазняют непутевых нас.
Разлука — вот какая штука:
не ожидая ничего,
мы вздрагиваем не от стука,
а от надежды на него.
Бежит ли дождь по ржавой жести,
стучит ли ставня — он такой:
разлука с женщиною — женский,
с надеждами — глухой, другой,
с победами былыми — колкий,
нетерпеливый, частый он,
а с родиной — не стук, а долгий
вечерний звон, вечерний звон.
«Дорога, слишком дорого берешь…»
Дорога,
слишком дорого берешь.
Не забывай про долг.
Когда вернешь?..
Молчит дорога.
Лишь июль печет,
да пыль сухая по ногам течет,
да черный грач на камне золотом,
задумавшись, сидит
с открытым ртом.
Грачиный царь — корона на башке
да перышко седое
на брюшке.
Знать, и ему дорога дорога…
А может, и не царь он, а слуга?
Почем дорога?
Разве хватит ног,
чтоб уплатить?
А сколько их, дорог!
Лежат дороги. Да цена красна.
Пуста-пуста грачиная казна.
Лежат дороги.
Пыль по ним метет.
Но всяк по ним задумчиво идет:
и царь, и раб, и плотник, и поэт…
Идут-идут… И виноватых нет.
Читать дальше