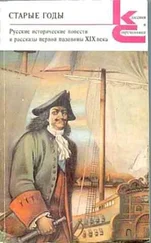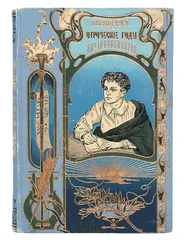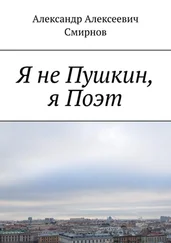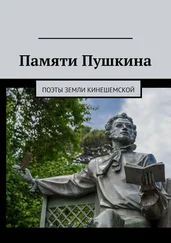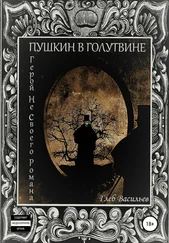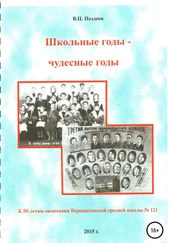Юлиан Отступник (331–363) — римский император (361–363), пытался, отказавшись от христианства, восстановить языческую религию.
Язон (Ясон, греч. миф.) — сын иолкского царя, предводитель похода аргонавтов, добывший золотое руно, муж Медеи.
Языки — народы.
Янус (римск. миф.) — древнее римское божество, бог времени, изображался с двумя лицами, одно из которых обращено в прошлое, другое — в будущее. В храме Януса на римском Форуме ворота были закрыты во время мира и открывались во время войны.
Япет (греч. миф.) — титан, супруг Азии, отец Прометея, был низвергнут в Тартар за участие в борьбе титанов против Зевса.
Пушкин, Полн. собр. соч., т. 14, 1941, с. 23.— Анализ этого высказывания см. в кн.: В. В. Виноградов, Стиль Пушкина, М., 1941, с. 482.
П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. 8, СПб., 1883, с. 116.
См.: Н. И. Мордовченко, Русская критика первой четверти XIX в., М.—Л., 1959, с. 193.
Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, 1937, с. 57.
К. Батюшков, Опыты в стихах и прозе, ч. 1, СПб., 1817, С. 4.
Карамзин, Сочинения, СПб., 1848, с. 548–550.
К. Батюшков, Опыты в стиха́х и прозе, ч. 1, с. 13.
В. А. Жуковский, Полн. собр. соч., т. 9, СПб., 1902, с. 99.
К. Батюшков, Опыты в стихах и прозе, ч. 1, с. 9.
Двойственность отношения к фантастике в литературной борьбе 1800–1810-х годов отразилась, например, в том, что в полемике вокруг баллад Жуковского и Катенина защитник Жуковского Гнедич в статье, одобренной Дмитриевым, Батюшковым и В. Л. Пушкиным, осудил фантастику цитатой из комедии Шаховского, а его оппонент Грибоедов возражал: «Признаюсь в моем невежестве: я не знал до сих пор, что чудесное в поэзии требует извинения» (А. С. Грибоедов, Сочинения, М., 1956, с. 390). Ссылка на якобы «классические» вкусы Гнедича здесь мало что объяснит. Напомним свидетельство Жихарева: «В „Гамлете“ особенно нравилась Гнедичу сцена привидения». «Он начал декламировать сцену Гамлета с привидением, представляя попеременно то одного, то другого <���…> Кажется, сцена появления привидения — одна из фаворитных сцен Гнедича» (С. П. Жихарев, Записки современника, М.—Л., 1955, с. 190, 422). А сам Жуковский в споре с Андреем Тургеневым доказывал, что при переводе Макбета на русский язык «чародеек» лучше выпустить.
Показательно, что к «бессмысленным поэтам» отнесены не только «беседчики», но и предромантик Клопшток (ср. ниже).
«Арзамас и арзамасские протоколы», Л., 1933, с. 215.
«Литературные портфели», Пб., 1923, с. 71–72, 74–75.
«Арзамас и арзамасские протоколы», с. 172.
В этом смысле показательно, что именно Дмитриев, даже в большей мере, чем Карамзин, стал классиком карамзинистов. Столь же показательно стремление Пушкина возвысить авторитет Карамзина-поэта за счет Дмитриева.
Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, 1937, с. 167.
Пушкин, Полн. собр. соч., т. 11, 1949, с. 53–54.
Пушкин, Полн. собр. соч., т. 11, 1949, с. 53.
Пушкин, Полн. собр. соч., т. 8, кн. 1, 1938, с. 457–458.
Пушкин, Полн. собр. соч., т. 12, 1949, с. 144.
Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, архив бр. Тургеневых. В дальнейшем ссылки на это архивохранилище будут даваться сокращенно: ПД.
Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, 1937, с. 201, 210.
Там же, с. 137.
«Сын отечества», 1820, № 37.
В. А. Жуковский, Полн. собр. соч., т. 9, с. 125.
Н. Остолопов, Словарь древней и новой поэзии, ч. 1, СПб., 1821, с. 401.
Там же, с. 404.
Ориентация карамзинизма на среднюю, «массовую» литературу отчетливо проявилась в перечне пропагандируемых имен западноевропейских писателей. Пушкин в 1830-х годах с изумлением отмечал: «Вольтер и великаны не имеют ни одного последователя в России; но бездарные пигмеи и грибы, выросшие у корня дубов, Дорат, Флориан, Мармонтель, Гишар, M-me Жанлис — овладевают русской словесностью» (Пушкин, Полн. собр. соч., т. 11, 1949, с. 495–496). Чтимый В. Л. Пушкиным и Воейковым Делиль — непререкаемый авторитет для русских писателей 1800-х годов — был для него «парнасский муравей». Ориентация Пушкина на французскую классику, от Буало до Лафонтена и Вольтера, имела характер бунта против вкусов карамзинизма.
Читать дальше