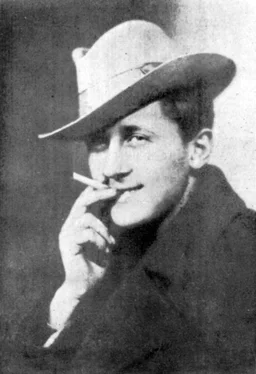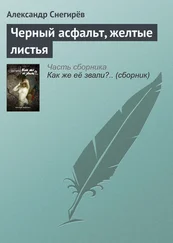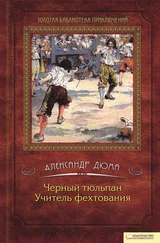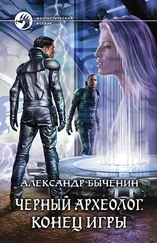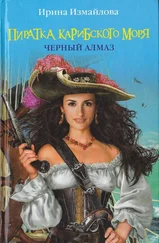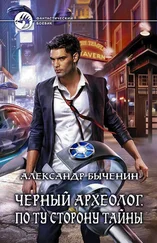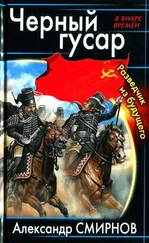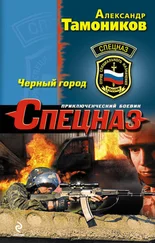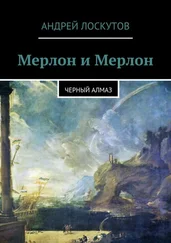Хорошо как! Запомню все это,
И в ушах унесу, не в глазах:
Ночь. Тепло. Тишина.
Планета,
Где две лошади бродят в овсах.
Передать настроение, знает каждый поэт, гораздо труднее, чем сообщить мысль (даже самую замечательную). Кореневу это чаще удается, чем не удается.
Метафорика же Коренева всегда неожиданна и... естественна. В его метафорах и сравнениях нет вычурности, они всегда словно напрашиваются сами собой. Вот, например, Коренев пишет в стихотворении «Морские лилии»:
Лишь лилии — лебеди леса —
Доходят до самой воды.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Как берега чуткие уши,
Они на безлюдье растут...
Здесь как бы нет «выдуманности»: ведь так и есть... Или в другом стихотворении:
Свежесть леса, как удар кулака,
В нос шибает озоном,
Точность, уместность и единственность этого сравнения будут особенно очевидны, если взглянуть на название и дату: «Утренний лес в немецком тылу», 1944.
«Превозмогая обожанье», смотрит поэт на мир и не устает удивляться. Чему? Ну, хотя бы тому, что «хруст белого снега под каблуком — как будто яблоко ест ребенок», или этому
Последним одиноким рейсом
Трамвай,
Как рыжая лисица,
Бежит, принюхиваясь к рельсам...
Многие стихи Коренева могут заслужить упрек в описательности (например. «Спанье», «Отбытие», «Днем буранным»). Но кто и когда объявил описательность смертным грехом поэзии? Ведь для поэта описать мгновение — значит вырвать его из плена небытия. Литература — служба Памяти.
Живописность, картинность, наглядность — подлинная страсть Коренева. Понятна его любовь к Есенину: фотографическая карточка полузапрещенного в 1939 году «певца упадничества» — это был «символ веры» молодого поэта.
Вот как начинается стихотворение «Апрельский гимн»:
Ларинголога
огромным зеркалом
Солнце
вспыхивает,
глядя в горло улиц —
Что охрипли от парного пекла...
Это — в и д и ш ь. Как видишь и такую, например, картину, набросанную всего несколькими штрихами:
...из колясок
псы
торчат,
Как идолы
острова
Пасхи.
(«Колесный транспорт»)
Коренев — мастер зрения. Когда нужно, поэт создаст графические изображения, работая линией, но гораздо чаще он использует цвет. Причем не полутона и оттенки, а насыщенные основные цвета. Так, в стихотворении «Мы идем по ничейной земле» (1943) необычайно — до жути — живописны образы войны и смерти:
Белой бабочкой
около дула
Нестерпимо забьется огонь
Ночь как море. И берега нет.
И ракеты химический свет
Повисает:
все поле,
подробно,
До воронок, до шелковых трав ,
Изменив своей синькою ровной,
Словно жизнь у него отобрав...
Не случайно первый сборник Коренева (редактором которого был Михаил Светлов) открывался стихотворением «Маляр» (1944), где были строки:
Белит маляр,
покуда краски хватит!
Весь белым, синим перемазан день.
И мне бы
В ветре, грубом и сыром,
Торчать таким веселым маляром!
И мне б владеть, поднявшись на леса,
Цветами радуг, целым миром новым:
Зеленым,
синим,
розовым,
лиловым!
Покуда черным не зальет глаза.
Это достаточно точная самоидентификация. Как и другая:
Я солдатская кухня
В развалинах города.
Я в пути, я в пути!
И года, чтобы спас их
От словесного голода,
С котелками ждут очереди впереди.
В юношеском, довоенном (1940), стихотворении «Дай, судьба» поэт писал:
Дай, судьба, мне поклажу на славу —
И любовь, и заботу, и труд,
Положи в меня звезды и травы,
Как мешки на подводу кладут.
Просьба была уважена: судьба щедро одарила его и любовью, и заботой, и трудом, звездами и травами, а еще — нелегкими годами жизненных испытаний, но самое главное — поэтическим даром. Он был поэтом не только в стихах, но и в жизни, а это случается не так уж часто.
Коренев успел издать более 20 книг стихов и переводов. Книг неровных, где наряду с блестящими произведениями есть стихи, которые должны были попросту оставаться в блокнотах как некие стихотворные упражнения (необходимые, разумеется, каждому стихотворцу). Случалось — поэту изменял вкус, автор словно не замечал, что порой зарифмовывает банальности. Но даже в «средних» стихах — нет-нет и мелькнет золотинка (шальная метафора, роскошная аллитерация, свежий эпитет; одна строка — но какая!) —и не жалеешь, что пришлось переворотить энное количество «словесной руды». И — подкупающая и все искупающая искренность поэта. Строгий редактор такие стихи забракует и будет, безусловно, прав, но благодарный читатель не столь беспощаден: он умеет прощать поэту (если уж принял его душой) все — «единого слова ради».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу