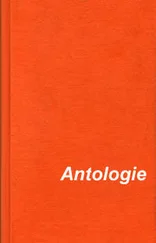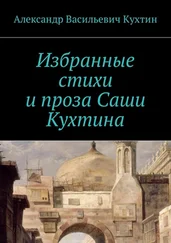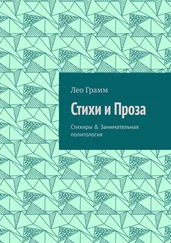Я спустился к дороге, обвивающей синее озеро, я посмотрел назад. Там ждала меня Матильда. С минуту я постоял, словно я сам не поверил тому, что я собирался сделать. Потом, не думая ни о чем, я побежал прочь от фермы. Сначала я бежал медленно, затем быстрее, еще быстрее и наконец я побежал так, что слезы полились у меня из глаз. Впрочем, быть может, это было не от быстрого бега, а от чего-то другого. Не знаю.
Я бежал долго. Перепрыгивал через какие-то ямы, канавы; перебегал дороги, поля; продирался сквозь колючие кусты. Теперь не помню, сколько времени я бежал. Отдыхал, бежал, лежал, опять бежал… Добежал до какого-то поселка. Пил соду. Увидел проезжающий автобус. И только тогда, уже влезая в автобус, я заметил, что всё еще крепко сжимал в своей руке теннисный мяч. Я выбросил его в окно и, совершенно обессиленный сумасшедшим бегом, повалился на сиденье. Я был как во сне; ничего не видел, не слышал, не чувствовал.
Часа через два я был дома, в Нью-Йорке. Там ждал меня обед; мои книги, симфоническая программа из Радио Сити. Весь день я просидел дома. Мне не было стыдно; вообще, было какое-то странное чувство, словно я вступил в новую жизнь. Переступил какой-то порог.
На следующий день мне стало хуже. Стали мучить тяжелые, какие-то сырые, переживания. Всё-таки слабость, ужасная неуклюжесть, это мое бегство от Матильды! Успокаивал себя: значит так было нужно. На работу не пошел. Гулял в парке, был в музее, сидел в прохладных уголках и перебирал в уме все перипетии своего удивительного приключения. Вечером был в кино.
Но утром во вторник пошел. От этого я не мог убежать. Словно какая-то сила тянула меня в мастерскую для того, чтобы испытать всё то, что мне нужно было испытать. Заглянуть, так сказать, на дно. И вот я опять на Площади Льва.
Мастерская встретила меня тихо, затаенно. По этой затаенности я понял, что всем известно о том, что произошло в воскресенье. Но никто не обращался ко мне с вопросами. Я сел на свое место и вялыми руками принялся разбирать свой инструмент. Прошло полчаса. Тишина стала невыносимой.
Вдруг я услышал знакомый скрип. Боком глаз взглянул. Хозяин стоял в раскрытых настежь конторских дверях — огромный, костистый, страшный. Белые глаза смотрели прямо на меня.
Я замер. Замерла и мастерская. Все станки, как по команде, остановились. Глухо прозвучали медленные шаги и остановились за моей спиной.
Я поднялся и обернулся. Хозяин стоял передо мной. Что-то новое было в его глазах: какая-то усталость, сраженность. Какая-то, словно, глубокая печаль. С минуту мы стояли друг перед другом молча, без движения, как тогда в баре. Вдруг хозяин поднял руку. Мне показалось, что он хотел ударить меня, и я отшатнулся. Но он спокойным, осторожным движением протянул мне конвертик.
— Что… это? — спросил я его шепотом.
И мой хозяин ответил:
— Расчет.
Повернулся и пошел в контору. Я опустился на свое место с конвертиком в руке. Вся кровь остановилась в моих жилах. Мастерская провалилась куда-то. Вслед за мной. В пропасть…
Я очнулся от страшного шума. Вокруг меня происходило что-то необыкновенное. Кричали, хохотали, плевались; обзывали меня чудовищными словами, тыкали в меня палками, бросали окурками и тряпками… Принесли мой пиджак, вываляли его в грязи и бросили мне под ноги; какие-то лица смотрели на меня из конторы и тоже смеялись. Кто-то облил меня водой, кто-то пнул меня ногой…
Кое-как собрав свои вещи, я направился к выходу. Я шел, как в тумане. Уже в дверях меня схватили за плечи и так сильно толкнули вон, что я чуть не покатился вниз по лестнице. Возмущенный, я обернулся, чтобы запротестовать, но, увидев перед собой орущую толпу рабочих, их разъяренные лица и поднятые кулаки, я вдруг понял всю бессмысленность своего протеста и мне стало внезапно смешно. Я громко рассмеялся и выскочил на улицу. Там уже собиралась, привлеченная шумом, небольшая толпа прохожих. В последний раз я посмотрел на убогую церковь, на гараж и на темные окна мастерской и легко пошел прочь. Так состоялось мое прощание с Площадью Льва. Больше я ее не видел.
Вот и конец моей истории. Что я мог бы прибавить к ней? Право, нечего. Эго было лет пятнадцать, может быть, двадцать тому назад. Но каждый раз, вспоминая всё это теперь, я вижу перед собой странные глаза своего хозяина, глаза смертельно раненого восьминога, и слышу его негромкий голос, произносящий короткое, простое слово:
— Расчет!
Тогда оно прозвучало в моих ушах, как удар грома.
Новый журнал. 1951. № 27. с. 57–66
Читать дальше